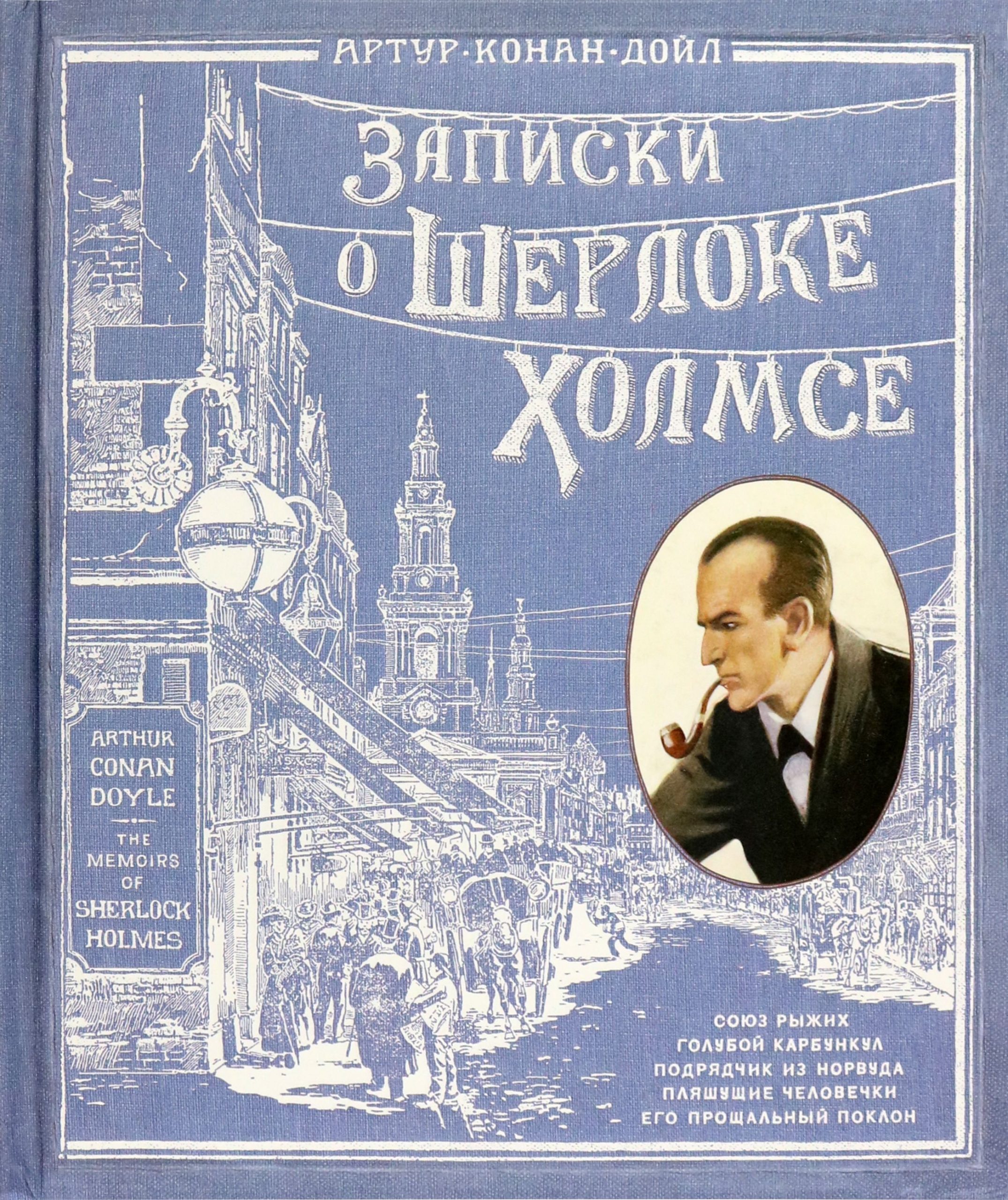Автор романов «Архитектор и монах», «Дело принципа» и множества коротких рассказов Денис Драгунский выпускает в августе новую книгу «Автопортрет неизвестного» — роман, значительная часть которого разворачивается в большой квартире сталинского дома, построенного для выдающихся деятелей науки и культуры. Амбициозная супруга современного бизнесмена, купившего эту квартиру, решила написать бестселлер о людях, которые жили здесь до нее: прославленном в тридцатые-сороковые художнике, министре специального приборостроения, его сыне — ученом из секретной лаборатории. Времена переплетаются, вымысел и реальность переплетается, судьбы героев переплетаются так, словно все они — одна семья. Что почти так и есть…
По словам самого Дениса Драгунского, слоган книги: «12 женщин и 17 мужчин, старинный дом и странная жизнь». В публикуемом отрывке есть любовь, соперничество, благородство и квартирный вопрос, — то есть все, что нужно для увлекательного чтения.
Через две недели объявилась Сотникова.
Это было смешно, как в кинокомедии.
Это было в тот вечер, когда Лиза наконец согласилась прийти к нему домой.
Мама вместе с Любовью Семеновной уехала на дачу с пятницы до воскресенья. Последние дачные дни в семье Перегудовых: дача уже была, как говорили в старину, назначена к торгам — кажется, мама поехала встречаться с очередным покупателем; ну и подышать воздухом на прощанье. Уехала на целых две ночи, чудо какое, а что ж дальше-то будет, когда дачу продадут, куда ж девчонок водить…
Алеша долго думал, где соблазнять Лизу. Чай пить лучше не в столовой за громадным всегда раздвинутым столом-сороконожкой, а в гостиной, за чайным столиком. А где будет самое главное?
У него была своя комната, крохотная, с совершенно монастырской коечкой. Не годится. В бывшей родительской, ныне маминой спальне — неудобно, неприлично. Еще волос останется за подушкой — у него уже была такая история, мама его заставила вручную перестирать все белье… Оставался отцовский кабинет, там был роскошный, широкий, обитый восточным гобеленом диван — отец на нем довольно часто спал. Алеша достал из шкафа в коридоре простынку, пододеяльник, наволочку и свежее полотенце. Подушки на диване уже лежали, целых четыре, под голову и спину, такие же восточно-гобеленные, с персидскими узорами, львами и луноликими красавицами — хотя и производства ГДР, кажется. Постелив простынку и вдернув в перекрахмаленный — пришлось с треском раздирать — вдернув в пододеяльник китайское шерстяное одеяло («марка Лебедь», прочитал он на шелковой этикетке) — и отойдя на шаг, увидел и понял, что вся комната приобрела идиотский вид. Очаровательно мрачноватый кабинет с зеленой настольной лампой, портсигарами, спичечницами, бюварами, стаканами для карандашей и торсионными часами в стеклянном футляре на столе, где в свете лампы медленной каруселью вертятся полированные шары маятника, отбрасывая зайчики на зеленое сукно; с аскетичной люстрой, почти как в метро, угловатые лапы и матовые плафоны; с целой стеной застекленных книжных полок, специальных, глубоких, с дверцами («книги в восемь рядов», как и было у Гумилева), с креслом-качалкой под торшером, с моделями самолетов на специальной этажерке, — все эти чудеса грубо и как-то по-мещански беспардонно перечеркивались белой постелью, вдруг устроенной на диване. Алеша даже фыркнул, представив себе, как все это увидит впервые сюда вошедшая Лиза. Наверное, тоже засмеется. Подумает: «какой до неприличия откровенный мальчик!» А вслух, наверное, пошутит. Что-то вроде: «Здравствуйте, товарищ Некрасов!» Была такая картинка — великий народный поэт лежал на диване, весь в белых простынях, и грыз авторучку. То есть гусиное перо, конечно же.
Однако отец частенько спал именно так, на диване, и вот этот курительный столик пододвигал к изголовью дивана, ставил на него стакан с водой, на всякий случай валидол и нитроглицерин в стеклянных тюбиках, клал свои часы — большие часы «Сима» со светящимися в темноте стрелками. Кажется, Алеша только сейчас вдруг подумал — «а почему это папа так часто спал отдельно от мамы?» — но эта мысль мелькнула и ушла, заслонившись предстоящим визитом Лизы.
Нет, это не годится. Он быстро сложил простынку и одеяло, и полотенце тоже, в стопку и положил на пуфик в углу, прикрыл пледом. Вот так. Оглядел кабинет. Вот так. В душ он уже сходил, чистое надел. Но на всякий случай сунул палец себе под мышку, понюхал. Вот так. Отлично.
Семь часов. До прихода Лизы оставался ровно час.
И вот тут позвонила Сотникова.
Она сказала, что звонит от метро «Октябрьская», десять минут пешком. «Привет, ты что делаешь? Мне надо срочно зайти». «Что за срочность?» «Отдай мне стихи Гумилева! Вон ту папку!» «Вспомнила бабушка девичий вечер! Да я не знаю, где она». «Врешь! Я ее у тебя видела!» «Где, когда?» «Шестого января. У тебя в комнате. На книжной полке, сверху книг лежала».
Шестого января. Как интересно. Папа умер четырнадцатого сентября. Двадцать третьего октября — сорок дней. А после ноябрьских праздников — как раз собирались у Татарникова — вдруг выяснилось, что Сотникова «не своя». Интеллигентные какие ребята. Сорок дней выждали, чтоб не прямо сразу папа твой умер, и ты теперь никто. Ну нет, нет, это уже бред какой-то! Конечно же, это совпадение.
Шестого января она у него была? Значит, он не видел Сотникову всего два месяца? Или уже два месяца? Ой-ой. Но ведь до этого они все время встречались. Во всех смыслах! А вдруг папка со стихами — это предлог, и сейчас она придет и предъявит живот на пятом месяце?
«Я буквально очень скоро ухожу!» — говорил он. «Нет, мне надо срочно!» — говорила Сотникова. «Может быть, завтра? Или — когда хочешь. В любой день, в любое время. Я сам подвезу, я сам приеду, куда скажешь». «Нет, мне надо срочно сейчас». Алеша посмотрел на часы, они уже пять минут препирались, она бы уже была почти на месте. «Давай, — сказал он. — Только по-быстрому, я ухожу буквально через десять минут, я уже буквально в пальто».
Сотникова примчалась очень скоро, запыхавшаяся, румяная, красивая, как черт. Никакого пятого месяца, конечно же. Грудь, извините за выражение, вздымается от частого дыхания, глаза синие, светлые пряди выбились из-под настоящего павловского платка, и драповое пальто, и полусапожки замшевые, будто с витрины: как это она умудрилась добежать от метро, не запылившись, не забрызгавшись? Внимательно посмотрела на него, чтобы убедиться, правда он уходит, или врет. Он специально надел уличные ботинки и кашне на шею. «Чаем хоть напоишь?» — спросила она, поцеловав его в щеку и каким-то седьмым чувством ощутив, что его кашне — это легкий маскарад. «Я же сказал, я убегаю». «А мама на даче?» «Откуда знаешь?» «Я следила. С полудня гуляла тут вокруг. Такси приехало, она с какой-то тетенькой, с этой вашей прислужницей — погрузилась и ту-ту. На дачу ведь, да? Тем более с сумками». Ни фига себе. Она за ним следила. «Это не прислужница! — строго сказал Алеша. — Это мамина ближайшая подруга. Любовь Семеновна, сестра покойного мужа ее покойной двоюродной сестры». «Ну и ладно. Уходить собрался? По делам? — Сотникова обняла Алешу, прижалась к нему, расстегнув пальто, впечаталась горячим животом. — Ну, ты иди. А я тебя буду ждать. Ты придешь, я тебя встречу…» Она села на табурет у вешалки, стала расстегивать молнию на сапогах. «Стоп-стоп-стоп! — сказал Алеша. — Это что, типа вернись, я все прощу?» «Нет, — засмеялась она и протянула ему ногу, снять сапог. — Это типа прости, я вернулась! Видишь какая я добрая, хорошая и покладистая». Слово «покладистая» она произнесла с длинным «а» — поклааадистая — и с нежной усмешкой, и даже слегка повела плечами, и потянула ногу еще дальше, едва не прикоснувшись носком сапога к его коленке.
На секунду захотелось запереть дверь, и в случае чего не откликаться на звонки, если Лиза будет звонить в дверь или по телефону. Черт ее знает, что там получится с этой Лизой, сегодня и вообще в будущем — а прекрасная желтоволосая почти совсем родная Сотникова — вот она.
Но это было только на секунду. Или даже на полсекунды.
— Послушай, — спросил он Сотникову, отойдя на полшага. — Что у тебя было с Мишкой Татарниковым? Только честно, если можешь…
— Ничего, — сказала она. — Хотя он, конечно, какие-то намеки делал. Довольно сильные, кстати. Например, говорит: «Что ты делаешь этим летом?» А что, говорю, ты хочешь пригласить меня отдохнуть на Лазурном Берегу? А он: «Лазурный Берег не обещаю, но в Ялту можем скататься». Фу! Он барахло, потому что хороший человек не станет клеиться к девушке друга… — Сотникова вздохнула, и с сожалением закончила: — Но и ты тоже так себе… — она вдруг покраснела, у нее задрожал голос. — Отдавай Гумилева.
— Сейчас.
Он сбегал в комнату, принес оранжевую папку.
Часы в гостиной пробили восемь раз. Лиза должна была прийти с минуты на минуту.
— Держи. Спасибо, — хотел было прибавить: «спасибо за всё», но удержался.
— Не за что! Дарю! — засмеялась Сотникова, и громко шлепнула папку на комод под зеркалом. Так сильно шлепнула, что какой-то мамин тюбик с помадой вылетел из фарфоровой корзиночки и упал на пол, закатился под комод.
Пока Алеша нагибался и доставал помаду, Сотникова выскочила вон, захлопнув дверь. Он вышел на лестницу. Слышно было, как Сотникова бежит вниз. И тут же внизу, на первом этаже, стукнула дверь лифта, скрипнули внутренние деревянные дверцы — это же семьдесят пятый год! — и лифт медленно поехал вверх.
Алеша был уверен, что это Лиза.
Он забежал обратно в квартиру, запер дверь на два ключа, и подумал, какая Сотникова прекрасная и благородная все-таки: она же поняла, что он кого-то ждет, раз так торопится ее спровадить. Она легко могла бы упасть в обморок — прямо вот на пол, на ковер. Да зачем обморок – встала, шагнула и подвернула ногу! Застонала бы и плюхнулась в кресло. И поломала бы ему весь кайф. Настоящая стерва так бы и сделала. Дай тебе бог здоровья и удачи. Жениха тебе хорошего, милая моя родная Сотникова.
Наконец стук лифта. Звонок в дверь.
Алеша стоял в прихожей перед зеркалом, загибая пальцы: раз два три четыре пять. Потом открыл.
Они с Лизой начали обниматься еще у вешалки. У нее с собой были домашние туфельки, мягкие, как чешки, очень аккуратные. Он усадил ее в кресло, снял с нее сапоги. Переобул ее. Сидя перед ней на корточках, поднял глаза. Она вытирала нос бумажной салфеткой.
— Холодно? — спросил он. — На улице?
— Да, — сказала она, сминая салфетку и пряча ее за подвернутый манжет красивого батника. Она была в теплом демисезонном пальто, но без кофты. — Немножко. У тебя будут гости?
— Нет, — сказал он, и повел в гостиную. Потом в столовую. Она оглядывалась. Он не зажигал свет. Было восемь вечера, март. Уже совсем темно. Спросил: — Хочешь чаю? Или кофе? У меня есть пирожки и конфеты.
— Нет, — сказала она. — А где твоя комната?
— Туда не надо, — сказал он. — Там не убрано, и она очень крохотная. Пойдем в папин кабинет.
— Как красиво, — сказала она, войдя. — Сколько книг. Зажги свет.
— Не надо, — сказал Алеша.
Стоя у дивана, они обнялись и поцеловались по-настоящему. То ли он ее слегка подтолкнул к дивану, то ли она чуть попятилась, утягивая его за собой, но они уже лежали, обнимаясь; он, приподнявшись на локте, расстегнул на ней батник и стал целовать ее грудь. Она села на диване и разделась, и снова легла, они снова целовались, а потом она чуть-чуть, но вполне понятно подтолкнула его голову вниз. Алеша никогда этого не делал, и тут же вспомнил, что в институте они в курилке смеялись над одним парнем, который рассказал, что делал это. Алеше сначала было неловко, но у нее был нежный живот и бархатная теплая внутренность бедер, прохладных снаружи; пахло свежим телом, шампунем и духами «Сикким», и это было не передать как вкусно, и она тихо и часто дышала, как будто сдерживаясь, чтобы не застонать, а потом сказала «а теперь дай мне», а потом она сказала «ну иди сюда» — и он только помнит, как в конце спросил: «а можно…» и она прошептала «да, да, да».
Потом они лежали рядом, и она спросила: «А что это мелькает? Как будто огоньки?» Алеша объяснил, что это зайчики от полированных шариков на маятнике торсионных часов. «А почему ты в Нескучном не захотела целоваться по-настоящему? — спросил он. — Я тебе тогда еще не очень нравился?». «Очень, — сказала она. — Вот именно поэтому. Я не восьмиклассница, чтоб целоваться, а потом домой бежать. Если целоваться по-настоящему, то чтобы тут же сразу все было… Понимаешь?» Потом она спросила, как найти ванную. Пришла минут через пять. Легла рядом.
— Как тебя в детстве звали? — спросил Алёша. — Например, в садике.
— Лиса, — сказала она. — Как любую Лизу.
— Лисичка-сестричка, давай вместе жить, — сказал он. — А?
— Давай. А где?
Алеша приподнялся на локте и взмахнул рукой. Дверь кабинета, где они лежали на диване, была открыта, видна была гостиная, и дальше, сквозь стеклянную дверь — огромная столовая. Анфилада. Три люстры висели по струнке. Часы пробили две четверти. То ест все это — включая ее приход, раздевание, целование и потом поход в ванную —– заняло всего полчаса.
— Что, разве мало места? — спросил он.
— Совсем нет места, — тихо засмеялась она. — Я, когда в душ ходила, обошла всю квартиру. Это же просто квартира-музей твоего папы. Так и просится мемориальная доска на доме. Здесь жил и работал крупный советский и все такое… Доска есть, кстати?
— Не смейся. Нет никакой доски.
— Ты что, я со всем уважением! Доска нужна. Надо ее пробить через Моссовет. Займись вместе с мамой. Но не в том дело. Тебе здесь места нет. В такой квартирище у тебя вон какая комнатушка.
— У мамы тоже. У меня десять метров, у нее пятнадцать. Это была их с папой спальня, между прочим.
— Тем более, — сказала Лиза. — И еще. Я, конечно, заранее очень уважаю твою маму, но должна заранее сказать: мы с ней не поладим.
— Почему? — изумился Алеша. — Она чудесная! Умная, добрая, ты что!
— Не сомневаюсь, — вздохнула Лиза. — Но мы с ней все равно не поладим. Мне так кажется. Лучше и не пробовать.
— Н-да, — мрачно сказал Алеша. — Хорошее начало.
— Можешь взять назад свое предложение, я не обижусь.
—- Ты что! — он бросился целовать ее, обнимать и шептать всякие слова и клятвы, и ему снова захотелось, и им снова было хорошо, и часы пробили сначала три четверти, а потом девять раз. Господи, всего час! Они пили чай в гостиной почти совсем голые: Алеша в полотенце на бедрах, а Лиза в своем батнике, накинутом на плечи.
Потом все-таки познакомились: Лиза с мамой, он с Лизиными родителями, и знакомили родителей друг с другом.
Вот Лиза была уж точно не своя. Вот уж совершенно из другого инкубатора. Но Алеше было все равно. Значит, это настоящее, — так он сам подумал.
«Покажи нам свою барышню, я видела, как вы в подъезд заходите, кто она вообще?» спросила Ната Ильясова, столкнувшись с Алешей во дворе. «В каком смысле кто?» — «Чья дочка?» «Чего-чего?» — он хмыкнул, пожал плечами и прошел мимо.
Денис Драгунский. Автопортрет неизвестного. Издательство «АСТ», «Редакция Елены Шубиной», август 2018.
Читайте «Литературно» в Telegram и Instagram
Это тоже интересно:
literaturno.com/text/pisat-kak-tolstoj
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com