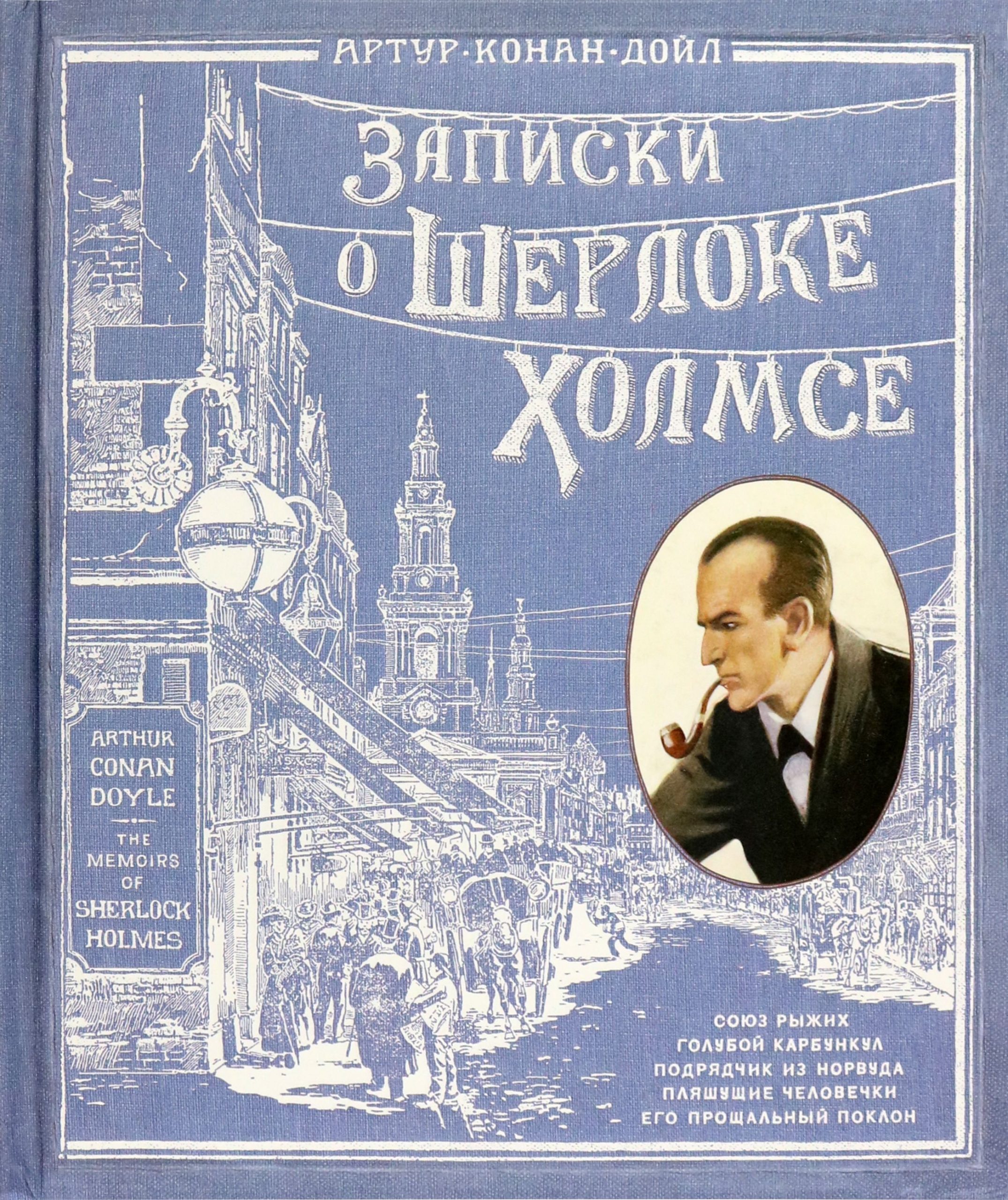Анна Кавалли — молодая московская журналистка, сценаристка и писательница. По ее сценариям сняты короткометражки «Страшная сказка», «Квартиранты» и «Выбор Маргариты», представленные на международных кинофестивалях. Сейчас Анна Кавалли сотрудничает с изданиями «Батенька, да вы трансформер», This Is Media и другими. Ее художественная проза публиковалась в московских альманахах. Предлагаем вашему вниманию повесть «Пустота» Анны Кавалли.
ПУСТОТА
В утренней тишине парка Аутгарден кричал ребенок, а мать успокаивала его на немецком. Я шла по дорожкам, лениво отбрасывая кончиком ботинка камешки, и смотрела на бледные деревья и выцветший камень венских домов. Наверное, меня можно было принять за типичную студентку, прогуливавшую лекции. В некотором смысле так и было: мне представилась далекая Москва, снег, со свистом летящий в лицо, наш университет, мои однокурсники… Сейчас все это казалось нереальным. В мире ничего не существовало, кроме по-зимнему строгой Вены, кричащих на немецком детей и черных деревьев, акварельно-прозрачных и застывших в утренней дымке, точно призраки.
Венсан проходил «Эразмус» в Вене и жил рядом с парком — но вот с каким? Я забыла спросить его об этом — а теперь уже было поздно: мертвые не разговаривают. Возможно, он жил прямо здесь, за углом, в белоснежной венской квартире, вроде моей — кто знает? Расставание подобно болезни. Боль потери приходит приступами, часто внезапно и непредсказуемо. Венсан стал моей самой сильной любовью.
Птица полетела надо мной. Я почувствовала, как дрожат колени — и как воспоминания о Венсане обступают меня со всех сторон. Мои призраки, мои надежды и все, чего нам не было суждено разделить: маленький домик в его родном городе Евроне, прогулки по берегам Луары и сын, а, возможно, даже два или три. Хотя в глубине души я знала: мы никогда не смогли бы сделать друг друга счастливыми. Он ненавидел людей. Его счастьем были книги. Он читал с невероятной скоростью и цитировал мемуары деятелей французской революции по памяти, целыми страницами, захлебываясь от странного восторга и упоения от ощущения единства с теми, кто уже истлел под землей. Удивительно: при такой сверхъестественной эрудиции Венсан оказался совершенно лишен эмпатии. Это свойство проявлялось даже в мелочах: если он готовил кофе, то никогда не делал его на двоих.
Я поднялась и медленно пошла обратно. Какое-то время я жила в хостеле на одной из конечных станций футуристически холодного венского метро. Потом в Вене нашлись друзья друзей — и мне позволили жить в их квартире, крохотной студии под самой крышей, заставленной орхидеями всех мыслимых и немыслимых оттенков розового. В Албании я потратила почти все свои карманные деньги: из еды я располагала хозяйской пачкой хлопьев и довольно внушительным пакетом с шоколадками. Я старалась растягивать еду, поэтому при очередном приступе голода шла гулять в парк. Обычно меня принимали за немку и пытались говорить со мной по-немецки — видимо, тому виной немецкие корни моей матери. Но я не знала немецкого. А на французском — и, тем более, русском — здесь никто не разговаривал.
Как сказал один из любимых писателей-фантастов Венсана: «Реальность — это то, что не исчезает, когда вы прекращаете в нее верить». Венсан теперь покоился на дне Скадарского озера. А его смерть, вернее, его убийство, стало моей реальностью, которая упорно не желала испаряться из памяти и снов. Почти каждую ночь я просыпалась от кошмаров: я вновь переносилась в Албанию и вновь видела, как тело Венсана погружается в ледяной мрак озерной воды…
I
Саша много работал. Бесполезно обижаться на мужчину, который влюблен в свою работу: в конце концов он сделает выбор не в вашу пользу. Я любила его. Но каждый день с судорожным отчаянием подозревала, что уже потеряла место в его жизни. Я стала изящным дополнением его образа: успех, востребованность, любимая женщина под боком. Мне казалось, он не слушает меня. Теперь я понимаю: у него не было сил не то что слушать — даже попытаться вникнуть в суть моих проблем. Женщина должна учиться справляться сама.
Донна Тартт сказала однажды: семейный быт — «воплощение ада на Земле». С каждым днем, с каждым заботливо приготовленным ужином, с каждой выглаженной рубашкой я все больше и больше убеждалась в ее правоте. Я видела себя совершенно не такой, какой меня любил он. Стройной как античная статуя, вещью в себе, недоступным совершенством. «Шанель», встречи с редакторами по выходным, работа над новой книгой в библиотеках — конечно же, в самых смелых мечтах я пыталась представить себе дерзкий отказ от компьютера и покупку стильной пишущей машинки.
Я пыталась говорить с Сашей о своих планах, делиться соображениями о французском и литературе, но он редко слушал меня. Большую часть времени он боролся с хронической усталостью. Максимум, на что его хватало, это на рваный утренний рассказ о том, как прошел вчерашний день и что предстоит сегодня. Я слушала с застывшей улыбкой на лице. Мне делалось дурно от ослепительной чистоты нашей квартиры, от его спокойствия и безупречности, от моих попыток быть идеальной женой.
Саша вызывал восхищение у всех, кто его знал. Стройный, высокий, подтянутый, он никогда не жаловался и умел работать. Саше было всего 25 лет, но он уже заработал на квартиру в Москве — и планировал купить новую машину. В его жизни все было расписано: машина, загородный дом, дети, откладывание денег на образование детей и так далее, вплоть до нашей с ним смерти. Если Саша заводит с кем-либо отношения, то надолго, а желательно — навсегда. Вы не поверите: Саша оказался настолько безупречным, что ничего от меня не скрывал. Однажды, в самом начале отношений, я залезла в его телефон, обуреваемая безотчетной ревностью и ужаснулась: там не было ни одного хоть сколько-нибудь пикантного сообщения. Ничего, помимо бескровных «как дела», «у меня все хорошо», «посмотри правки по проекту».
Еще Саша любил говорить, что он — человек коммуникабельный, и потому каждый четверг строго отводил для таких же неправдоподобно идеальных приятелей. Они никогда не шутили и не смеялись, а лишь изредка улыбались друг другу. Какой скучной должна быть жизнь человека, у которого нет секретов.
Однажды в конце апреля Саша не смог поехать со мной в Париж. Мы вместе копили на поездку. Я очень хотела вложиться, хотя зарабатывала раза в три меньше него — я откладывала буквально каждую копейку и в итоге мне удалось внести почти четверть денег. Но Саше внезапно поручили очередной проект — он занимался организацией выставок и бизнес-форумов. И он не смог отказаться. Конечно, он заметил, насколько я подавлена. Перед моим отъездом в Париж он сделал мне предложение. Это произошло буднично, за завтраком. Я прикоснулась к нему и сказала, что уже скучаю — не представляю, что буду делать без него в Париже. Он улыбнулся, быстро сжал мои пальцы и сказал: «Давай поженимся, тебе будет легче». И сразу же отпустил мою руку: ему было неудобно пить кофе.
К тому моменту прошло уже два года со времени моей последней поездки во Францию — невообразимо долгий срок для франкофона. За это время я сдала тысячу и один бесполезный экзамен в институте и убила множество часов на попытки найти постоянную — «нормальную», как говорил Саша — работу. Я ходила по собеседованиям, задыхалась от жары и чужого пота в московском метро и наконец устроилась во французскую фирму, занимающуюся «электрическими и информационными системами зданий».
Каждое утро мы пили кофе с маркетологами и до обеда урчали животами от голода, когда наконец добирались до вожделенного однопроцентного кефира в белом, как снег, холодильнике. Я помню высокие окна в офисе, помню, как по ним хлестал дождь и как жгло их беспощадное московское солнце. Помню еще перекур на задворках офиса, помню милую девушку Юлю, приставленную ко мне, чтобы обучить меня всем премудростям. On s’est entendu bien, мы хорошо ладили, как сказали бы французы.
Не зря офисная жизнь довела Кафку до хронической депрессии: в правилах жизни «белых воротничков» в России и правда много абсурдного. Например, здесь никого не интересует результат. Важно совсем другое: насколько ты громко смеешься, как выглядишь, сколько чашек кофе пьешь в день и сколько сигарет выкуриваешь.
Камю писал о вечном конфликте человека, стремящегося к рациональности, и абсолютно иррациональной природы. Мы пытаемся привести к единому знаменателю то, что знаменателя в принципе не имеет. Подобно крошечным суетливым жучкам, мы отчаянно стремимся привести в порядок свою маленькую норку, скатываем землю в комочки, придаем входному отверстию идеально круглую форму, хотя на самом деле все наши действия не имеют никакого значения: первый же дождь сведет наши старания к нулю. Книжные магазины ломятся от книг, призванных упорядочить реальность: «10 способов сделать то-то», «15 вариантов не делать того-то», «46 типов людей, которые вас окружают». Цифры успокаивают. Но пришло время признать: мы ни черта не понимаем в том, что происходит вокруг. Жизнь иррациональна. Ее законы нам не подвластны. И как бы мы не выравнивали края норки, как бы не вкалывали на работе, никаких гарантий успеха — и даже здоровья — у нас нет.
Из-за жгучей ностальгии по Франции — и необходимости практиковать французский — я начала общаться в фейсбуке с энным количеством иностранцев. Я часто путала — и еще чаще забывала — их имена. Среди них был и Венсан. Он сразу понравился мне своей парадоксальной манерой мышления и невероятной эрудицией — он легко мог бы заткнуть Сашу за пояс. Как я узнала потом, книги были его единственной страстью — он читал с бешеной скоростью и мгновенно запоминал прочитанное. Разве такие персонажи не встречаются только в романах?
Постепенно я ограничила общение со всеми, кроме Венсана. Моя влюбленность началась с невинной переписки в интернете, с сообщений в ватсапе, которые я быстро строчила немеющими от холода пальцами. Со звонков в скайпе в отсутствие Саши. Поначалу это был просто способ скоротать время и отвлечься от постоянной, тлеющей тревоги из-за моей трансформации в «просто жену» и «просто офисный планктон». Потом, много позже, болея и мечась по жарким простыням, пахнущим потом и лекарствами, я часто вспоминала начало нашей с Венсаном любви, его обезображенное ужасом лицо, мертвые белые руки, и темную гладь Скадарского озера… Я ни разу не пожалела, что убила его.
Помню, как меня дразнила и возбуждала мысль о звонке ему — бывало, я переписывалась с ним, сидя прямо перед Сашей, за милым домашним завтраком. Саша не знал французского — и не мог понять, что я пишу. Наверное, та часть меня, что стремилась к хорошему, та часть, что досталась мне от родителей, сопротивлялась странной игре, которую я затеяла. Но я продолжала. Переписка с Венсаном и более чем смелые шутки стали идеальным способом борьбы с повседневной рутиной.
Я делилась с Венсаном самым сокровенным. У меня кружилась голова от собственной открытости. Я посвящала его в такие мысли и чувства, которые раньше принадлежали — и могли принадлежать — только мне. С исступленным восторгом я сметала границы собственной личности — и еще до того, как мы встретились в реальности, Венсан уже овладел моим сознанием.
Он знал, что я должна была поехать в Париж. Венсан работал в Institut français, организации, рассылающей преподавателей французского в самые разные страны. В свои 30 он побывал в 37. Каждый год Венсан переезжал с места на место. Я нашла в нем все то, чего мне отчаянно не хватало в себе. Венсан видел мир, его опыт поражал воображение — мне казалось, он мое продолжение. Или, точнее, я — его. Но тогда, уезжая в Париж, я еще об этом не знала.
II
Самые интересные приключения начинаются с полнейшего нежелания куда-либо идти. Мы с Венсаном договорились встретиться в аэропорту Шарль-де-Голль. Я расхаживала туда-сюда с книжкой Амели Нотомб и изнывала от жгучего желания просто лечь в кровать и поспать. Забавно, что в тот момент о Саше я вообще не думала. Мне даже не было стыдно. Казалось, моя московская жизнь осталась где-то далеко, в нестерпимо белой квартире за сотни сотен километров — а здесь начиналась совсем другая, неизведанная новая реальность.
Наконец Венсан появился в дверях, запыхавшийся и всем своим видом извиняющийся за опоздание. Почему-то мне больше всего запомнился его густо-синий пиджак и белоснежная рубашка, а еще смеющиеся карие глаза. Я была в маленьком черном платье — в то время я использовала «Trésor», потому что думала, что его аромат делает меня старше и привлекательнее. Как и все ланкомовские ароматы, он не менялся и оставался тем же сладко-терпким, манящим и вызывающим ностальгию по чему-то давно ушедшему. Мне был 21 год. Мы гуляли по Парижу до густой темноты, шутили и наслаждались вечным летом и друг другом. Наверное, если рай существует, он выглядит точь-в-точь как ночной Париж и трепещущая в свете янтарных фонарей беспокойная Сена.
Помню, как он рассказывал про итальянских родственников — дядю звали Вито как дона Корлеоне, тетя отличалась громогласностью и невероятным кулинарным талантом (впрочем, это обычное качество южных итальянок). По словам Венсана, их маленький дом на морском побережье — царство свечей и лавандовых пледов. Его двоюродная сестра, Даниэла, учила философию и обожала Достоевского, и у всей семьи были иконописные лица и огромные глаза. От дома до моря нужно было идти всего пять минут — и Венсан обещал обязательно взять меня туда однажды. Я соглашалась и охотно мечтала вместе с ним, как мы будем гулять по берегу, старше и взрослее, о чем будем говорить и кем будем в жизни. Но я ни на секунду не верила, что мы действительно отправимся в Италию. Я оказалась права: в Италии я побывала много позже, и уже после смерти Венсана.
Он снял для нас квартиру в Париже. Мне было стыдно, но я не отказалась — и ничего не сказала Саше. Каждый вечер мы с Венсаном заходили за круассанами в маленькую булочную неподалеку от церкви Сен-Северин на левом берегу. Я быстро привыкла к французскому в повседневной жизни и бойко просила один круассан с шоколадом (для себя) и второй с миндалем — для него. Потом мы гуляли по «нашей набережной» до белого костела и шли домой, в голубой сумрак спальни.
Полное имя Венсана звучало до тошноты поэтично: Венсан Флориан Александр Маккер. Отец Венсана служил офицером в Алжире. В конце франко-алжирской войны его демобилизовали — и он вернулся на север, в маленький городок под названием Еврон. В нем насчитывалось всего семь тысяч жителей, никогда не бывало туристов — и не гремело войны. Венсан рассказывал мне, что в городе можно было совершенно спокойно сориентироваться, вооружившись картой 12-го века.
Венсан был нежеланным, но горячо любимым ребенком — и к тому же, единственным. Он блестяще закончил исторический факультет в университете Анжи, но затем решил, что слишком молод для того, чтобы задыхаться пылью в архивах и разбираться в хитросплетениях политических интриг при Бурбонах — и потому решил объездить как можно больше стран. Тогда он еще не знал, что постоянные путешествия оборвут его и без того хрупкие связи с окружающими — из-за переездов с места на места Венсану никак не удавалось завести прочных связей. Возможно, поэтому он так привязался ко мне.
Я сразу заметила, что ему были присущи странные привычки. Например, он с маниакальностью следил за чистотой своей одежды — и всегда ходил чисто выбритый и выглаженный, но зато разводил вокруг себя настоящий хаос. Казалось, он приносил бардак с собой: в первый же день в нашей парижской квартире все оказалось забито откуда не возьмись взявшимися вещами. В отличие от Саши Венсан оказался стопроцентной «совой» — и не вставал раньше полудня.
Конечно, Саша ничего не знал о нас с Венсаном. Я звонила ему дважды в день, с холодной точностью рассказывала, что увидела за день и какие музеи посетила — и затем терпеливо слушала минут пять его новости. Потом у меня обязательно находилась отговорка, и я заканчивала разговор. Каждый раз после звонка Саше мне казалось, я как будто бы измазана в чем-то гадком — и мне никогда не отмыться.
В последний день в Париже мы решили выехать за город. Разразилась гроза. Разгоряченная жарой последних дней земля дымилась от ледяной дроби дождя. Мы выпили слишком много вина, и, конечно же, Венсану не стоило садиться за руль — но я могла думать только о предстоящем отъезде. Мы мчались по залитой дождем дороге, он держал меня за руку и отрывисто объяснялся мне в любви. Фонари вспыхивали как августовские звезды и гасли, моя голова кружилась, горло горело изнутри от дешевого вина. Я отстраненно думала о нарастающей скорости. «Если мы разобьемся, это будет не самая худшая смерть», — решила я про себя.
Моя жизнь больше не казалось мне ценной. Со времени встречи с Венсаном я не написала ни строчки. Я больше не тешила себя иллюзиями о своем призвании и особом пути, я чувствовала себя потерянной и влекомой невидимым течением куда-то прочь от всех моих прежних целей и мечтаний. Скорость все росла и росла, я почти физически ощущала сопротивление воздуха, который пронзала наша маленькая машина. Я закрыла глаза. Голова у меня кружилась до самого утра.
Ночью мы лежали обнявшись, я плакала в темноте. Не от расставания с ним, а от ощущения собственной беспомощности. Я была во Франции, самой красивой стране на Земле, за сотни километров от родной Москвы, и никто не мог помочь мне советом. Дальше я улетала обратно, к Саше, работе и своей прежней жизни. Несмотря ни на что, это была наша лучшая ночь: я помню его тревожную близость, ощущение слияния двух разных личностей в одну, болезненного и прекрасного одновременно.
Я смутно помню дорогу в аэропорт, дрожащую влажность раннего утра, усталую собранность Венсана. Мы оба прекрасно знали: скорее всего, нам больше не суждено увидеться. Но все равно обсуждали даты следующей встречи, и куда мы больше хотим попасть: в Прагу или в Будапешт. Венсан между делом бросил, что в сентябре уедет в Албанию, в древний город Шкодра (или Шкодер) на севере страны — ему предложили там пост. Он спросил, приеду ли я к нему. Я засмеялась и сказала: «Разве я смогу отказаться?» Я не думала, что и правда навещу его там.
Когда Венсан умер, не было кладбища и траурных процессий. Не было плачущих отца с матерью. Ужас его смерти был в том, что никто ее не заметил. А тогда, когда он стоял в аэропорту и провожал меня глазами, казалось, ему предстоит совершить в жизни что-то грандиозное. Как минимум, написать один хороший роман. Он не был похож на Сашу — и на всех остальных мужчин. Хотя внешне Венсан был совершенно заурядным европейцем — с очень бледной кожей, болезненно худыми пальцами рук, сбитым режимом и внушительной медицинской картой со всевозможными расстройствами на почве постоянного стресса.
Сразу после того как я села в самолет, на меня обрушилось осознание того, что я сделала. Я забилась в угол и смотрела на золотые паутины далеких городов, прорезающих морщинами ночную мглу, и пыталась справиться с дрожью. Поиски предельной, окончательной, полной близости — отличительная черта невротика. Увы: абсолютное слияние двух существ возможно только в нездоровых отношениях. Мы с Венсаном бесстрашно смели границы и сблизились так, что, казалось, уже не разорвать. И оба горько пожалели об этом.
III
После возвращения из Парижа я жила от сообщения до сообщения, от звонка до звонка. Когда он не писал, у меня все холодело внутри. Я знала наизусть все его посты в фейсбуке. Я перечитывала его сообщения и невольно запоминала их почти дословно. Я боялась себя. И старалась скрывать от других масштабы моей лихорадки. Если я и говорила о нем, то или с сарказмом, или зло, я суеверно избегала серьезных разговоров о Венсане и предпочитала называть его обезличенно «французом»: «мы с французом», «помню, как француз» и так далее. Конечно, говорила я о нем только с проверенными людьми — неожиданно для меня во мне проснулась мелкая, животная хитрость нашкодившего зверька. Я умело скрывала свои истинные эмоции от Саши. Я больше ему не доверяла. Мне казалось, я связана отныне и навеки невидимой нитью с одним единственным человеком — Венсаном.
Помимо потери доверия меня настигла и другая беда — я начала проникаться презрением к Саше. Мысленно я постоянно сравнивала его с Венсаном. И всякий раз, когда Саша бесился из-за крошек на полу, он был невероятным чистюлей, или моей привычки опаздывать везде и всюду, я думала про спокойное отношение Венсана к бардаку. Для него были важны совершенно другие вещи.
Согласно версии психоаналитиков, нами управляет инстинкт размножения. То есть все достижения мировой науки и искусства — всего лишь еще одна разновидность брачного ритуала для привлечения партнера. Меня всегда занимала мысль, не является ли интеллектуал противоестественной мутацией, и, может быть, обычный обыватель куда лучше вписывается в логику природы? И поэтому меньше переживает?
Вы будете смеяться, если узнаете, почему я выбрала именно Венсана. Он любил книги так же страстно, как я, и мог поговорить со мной на любую тему. У нас оказались общие интересы: история (особенно Наполеоновские войны), классическая французская литература и путешествия. Помню, как он читал мне наизусть стихи Гийома Аполлинера, пританцовывая в такт поэтическому ритму:
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
(*Тихо течет Сена под мостом Мирабо
Унося нашу любовь.
Мне нужно помнить всегда:
Радость всегда приходит вслед за печалью.
Проходит ночь, пробил час —
Дни проходят, а я остаюсь, где был)
Сложно поверить, насколько для меня важны разговоры в отношениях. Говорят, женщины любят ушами, подразумевая под этим женскую падкость на комплименты, но в моем случае это означает потребность в долгих дискуссиях, совместных обсуждениях чего угодно и обмене опытом. Каждое утро Венсан начинал с внимательного прочтения за утренним кофе свежих статей в трех ежедневных французских изданиях — Le Monde, Le Figaro и Le Point. Три журнала по-разному освещали те или иные события, а Венсан забавлялся, пытаясь вычленить достоверные факты из мешанины журналистских домыслов.
Когда я вспоминаю это, я ловлю себя на мысли, что скучаю по нему. Несмотря на то, что кардинально пересмотрела свои взгляды на противоположный пол. Теперь я поняла: эрудиция и схожие интересы не являются прелюдией к «и жили они долго и счастливо». Так что встреть я Венсана сейчас, я бы отказала ему. И совершенно точно не смогла бы в него влюбиться. Сейчас я мало чем отличаюсь от остальных женщин: мне нужен надежный, добрый и умный (в практическом смысле) мужчина, с которым я могу чувствовать себя защищенной. Но во время нашей встречи с Венсаном я чувствовала в себе желание нырнуть в омут с головой, рискнуть всем ради новых впечатлений. Венсан казался мне недосягаемым идеалом — и я могла бы пожертвовать многим, чтобы быть с ним.
Я зачитала до дыр книги, которые он привез мне из Франции. Я вдыхала их запах и представляла его в маленьких книжных магазинчиках во Франции. Вот он задумчиво идет мимо книжных полок, едва касаясь кончиками пальцев обложек, вот к нему подходит продавец и спрашивает с напускным равнодушием «monsieur, vous désirez?» — чего желаете, месье? — а Венсан отвечает ему, что ничего конкретного не ищет, и продолжает изучать роман за романом, автора за автором, пока не находит наконец то, что, по его мнению, меня достойно. Он называл меня «моя русская принцесса», а я в ответ шутила про жизнь в сибирских лесах с медведями. Мы оба пребывали в восхищении от книжки одного парижанина, бросившего все и уехавшего в маленькую хижину в Сибири, чтобы прожить там шесть месяцев в полнейшем уединении. Мы мечтали повторить его подвиг однажды.
Сейчас я скажу банальность, набившую оскомину каждому библиофилу, но книги — единственные существа, которые никогда меня не подводили. Природа «наградила» меня очень нервной натурой — мне свойственно впадать в болезненные приступы отчаяния, которые, хотя и никогда не длятся долго, забирают почти все мои силы. В такие минуты мне не хочется жить — и, к сожалению, это сказано не для красного словца. Мне кажется, я зря провожу отведенное мне время, меня мучает страх смерти — даже не смерти как таковой, а забвения после нее. И вот в такие моменты книги служат мне противоядием.
Книги всегда были способом путешествия для бедных. Ну, не всегда — а с тех самых пор, как появились издания в мягкой обложке, стоившие дешевле гамбургера. Я читала запоем. Всегда и везде. Если я ехала на вечеринку или с ночевкой к подруге, я брала с собой книгу, отлично зная, что она мне не понадобится. Самое ее присутствие меня здорово успокаивало.
Для каждого времени года у меня есть свой тайный список книг. Для осени — «Тринадцатая сказка», «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал», для зимы — что-нибудь из французских авторов вроде Камю, весной меня тянет к Донне Тартт, а летом я обычно читаю Мартина.
Но самое главное: книги всегда спасали меня от страха смерти. Он всегда был со мной. Помню, как в детстве я однажды горько разрыдалась под Новый год, осознав, что в один прекрасный день просто перестану существовать. Горела елка, бабушка тщетно пыталась меня утешить, но меня захлестнула волна истерики. С годами я научилась воспринимать смерть куда спокойнее. Но я до сих пор боюсь ее. Наверное, во мне сильна жажда жить.
Моя страсть к книгам не прошла даже после того, как я приехала к Венсану в Албанию. В его доме было сложно передвигаться — повсюду стояли книги, накрененные, точно мини-версии Пизанских башен, валялись заметки, блокноты, ручки, вещи. В этом хаосе было физически невозможно чего-нибудь не задеть — я регулярно ударялась, спотыкалась и падала.
Венсан терпеть не мог моей неуклюжести. Помню, однажды мы пошли с ним пить кофе в кафе. У меня дрожали руки — в Албании я была почти всегда на нервах. И я разлила свой латте. Венсан ничего не сказал. Он побелел и закрыл рукой глаза, словно я только что совершила неповторимую ошибку. Помню, как вернувшись вечером домой, чувствовала отчаянную потребность уехать. Тошнота подступала к горлу, мне было физически больно от сидения на одном месте. Но куда мне было ехать? Венсан ни за что не отпустил бы меня. Мне оставался только холодный албанский дом, вечно следящая за нами хозяйка и смех чужих детей за окном.
IV
Даже когда мы крепко обнимаем другого человека, мы не можем дотронуться до него по-настоящему. Нас всегда будет разделять тонкий слой атомов. Я впервые узнала об этом, дрожа от холода перед входом в бар «Кабинет», между четвертым и пятым егермейстерами — четвертый был уже чересчур, и мы с подругой вышли перекурить это дело. Тогда, под действием алкоголя и ощущения неожиданной внутренней близости с ней, я вдруг раскрылась и поделилась самым сокровенным — страхом одиночества.
— Я не согласна, что ты не имеешь права рассчитывать на помощь. Для чего еще нужны близкие люди? А если они тебя поддерживать не хотят, значит, ты ошибалась на их счет.
— Ты считаешь, если разошлись — то все, пути назад нет, сжечь мосты — и дело с концом? Чтобы освободилось место для новых друзей? — с легким сарказмом заметила я.
— Ну да, кто-то из людей тогда сможет почувствовать твою открытую дверь, и в сложный период вы, может быть, будете греть друг друга, пусть даже едва заметно, а не какими-нибудь отчаянными разговорами до утра. Но как к этой непосредственности прийти — черт его знает, — она задумчиво затянулась. Ее дешевое кольцо запотело от жара дыхания, длинные пальцы дрожали после бессонной ночи. Она говорила об атомах и близости, а я вспомнила другой день и другого человека.
Не помню, когда Венсан объявил, что приедет навестить меня в Россию. После Парижа я была настолько счастлива и угнетена одновременно, что не осмеливалась просить его о новой встрече. И вот однажды, как гром среди ясного неба, на меня обрушилась новость: Венсан хочет видеть меня. Он будет в Москве в августе. Он бросил свою девушку и любит только меня.
Вам никогда не доводилось испытывать то, что французы именуют l’appel du vide, зовом пустоты? Так называется иррациональное желание прыгнуть, возникающее у человека, смотрящего вниз с большой высоты. В моем родном Лианозово был старый мост над рекой, искусственно выкопанной еще в советское время. Обычный мост, ничего особенного — для непосвященных. Для нас же он звался Мост. Именно так, с большой буквы, как имя божества. Священное место. Там я впервые поцеловалась, выпила первую банку пива и сделала первую несмелую затяжку. Там же покончили с собой пятеро моих знакомых, вполне благополучных подростков, таких же, как все. Мост обладал странной магией. Он завораживал. Я сама много раз испытывала пресловутый l’appel du vide, стоя в одиночестве на мосту и смотря на безмятежную гладь реки внизу.
Мне сделалось жутко и весело от того, как быстро я согласилась встретиться с Венсаном. Я помню, как ехала в аэропорт встречать Венсана, и на мне вновь трепетало от ветра черное платье. Я опаздывала. Когда я зашла в зал ожидания, он написал мне: «Я тебя вижу». Я оглянулась по сторонам и вдруг, откуда не возьмись, передо мной возник он, обвешанный сумками, — как потом оказалось, в них по большей части лежали книги для меня, — усталый и смущенный. Я обняла его, но не поцеловала. Он не сделал попытку исправить ситуацию, и мне подумалось: ведь он и не обещал мне ничего — пару раз мы судорожно объяснились в чувствах.
А потом был поезд из аэропорта в Москву, мой смешной акцент, его улыбка, беснующаяся зелень схваченного первым осенним золотом леса и обжигающая близость наших рук, робко лежащих рядом. Моя голова кружилась от желания коснуться его, однако я сдерживалась и еще больше шутила, а он смеялся каждый раз, даже тогда, когда не понимал шутку.
Когда мы вышли из такси перед его отелем, я неожиданно для себя сказала:
— Я к тебе не пойду.
Он расхохотался: les filles, je crois pas! («боже мой, что за народ эти женщины!»)
— Не волнуйся, я к тебе не прикоснусь. Разве что…
— Никаких разве что! Обманешь — никогда меня больше не увидишь, — стресс подогрел во мне стремление к драматизации. Он серьезно кивнул:
— Уговор!
Мы поцеловались сразу же, как вошли в его номер — у белого треугольника окна с видом на тихий внутренний двор. Ночью я лежала на его кровати и зачем-то пыталась дышать в одном ритме с ним. Я получала детское удовольствие от чувства единения с Венсаном. Секунды растягивались до бесконечных, тягучих как ириска минут, и я никогда не думала прежде, каким относительным может быть время.
Привычные временные водоразделы разом потеряли свою актуальность. «Вот оно», — подумала я, — «Чистое состояния небытия, которого я так мечтала достичь в творчестве. Меня как будто бы не существовало, и в то же время я могла наблюдать за своим не-существованием со стороны, оценивать его, смаковать и наслаждаться. Это была чистая красота какого-то потусторонне-прекрасного мира, где мои тревоги, радости и заботы вдруг разом стали несущественными.
Утром я решила быть загадочной и ушла, ничего не сказав, когда он еще спал. Я шла по свежему городу, еще не тронутому жарой, и не могла перестать улыбаться. Саши уже не было дома, когда я вернулась. Только тогда мне пришло в голову проверить телефон: двадцать пропущенных. Я написала ленивую SMS с извинениями и рухнула спать. Днем я встала, прочитала удивленное «ты где?» от Венсана, написала Саше, что еду к родителям — «мама заболела, ей нужна помощь» — и уехала к Венсану. Больше я не думала о Саше до конца августа. До сих пор для меня осталось загадкой: как он терпел это? Как не сорвался? Я бы на его месте давно уже указала на дверь. Но Саша сделал вид, что поверил мне — и с головой ушел в работу.
Мои руки были в синяках от запястий до плеч. Венсан занимался любовью агрессивно, так, словно брал меня силой, без моего желания, — его возбуждало, когда я изображала сопротивление. Когда он впервые увидел кровоподтеки на моем теле, то ужаснулся и с побелевшим лицом произнес: «У тебя очень тонкая кожа». Я должна была тогда понять, что это тревожный звоночек. Я должна была понять, кто он. Но я ничего не сказала. Я улыбнулась и купила легкую рубашку с длинными рукавами. К моменту его отъезда почти все мое тело было синим.
После его убийства, года через два или три, я сильно заболела. Это было начало октября, листья уже облетели — а отопление никак не включали. Я решила принять ванную. Помню, как я лежала в дымящейся воде, и узоры на кафеле складывались в критских быков, скучающих человечков, таинственные силуэты — и внезапно сквозь этот болезненный и прекрасный вихрь проступило его лицо. Его незабвенное лицо, такое, каким я его запомнила еще до убийства.
Я села. Вода стекала по моей спине огромными горячими каплями, и в горячечном бреду мне казалось, что я уже и не женщина вовсе, а вулкан Этна, изрыгающий потоки густой, как лимфа, лавы. И я все всматривалась в невидимые чужому глазу черты Венсана, в каждую морщинку своей почти полностью забытой любви. Когда призрак исчез, я заплакала. Я не раскаивалась в том, что сделала. Я ненавидела себя за эту странную и общечеловеческую способность забывать самое дорогое.
V
Потом все было, как во сне. Мы пили кофе на балконе, задыхаясь от августовской жары и запаха лука, идущего от чьей-то чужой сковородки. Я боялась дотронуться до него — каждое касание было подобно электрическому разряду и действовало с неумолимостью магической формулы: мне упорно хотелось разрыдаться. Я держалась от него на безопасном расстоянии и зло шутила. Венсан же был необыкновенно говорлив и рассуждал о Сирано де Бержераке, о Франсуа Олланде и левых, об Албании и будущем, — и в этой идеальной картинке меня не было.
И все же я была уверена, что не заплачу. Но когда мы сели в экспресс до аэропорта, запахло поездом и дорогой, а он сидел рядом такой далекий и уже чужой, я почувствовала себя на грани срыва. Последней каплей стало совершенно нелепое обстоятельство: он опустил между нами ручку сидения. В моем раздерганном сознании чертова ручка превратилась в символ настоящей разлуки. В другое бы время я бы от души посмеялась над дурочкой, рыдающей из-за такой ерунды. Но не в тот день. Я билась от рыданий в его объятиях, все смотрели на нас, но впервые в жизни меня это совершенно не волновало. Он успокаивал меня, говорил разные глупости, обещал скоро встретиться опять — а я яростно мотала головой и шептала: «Мы же больше никогда не встретимся». Венсан усмехнулся: «Никогда не говори никогда».
Когда мы доехали до аэропорта, поток слез иссяк во мне, и я успокоилась. Во мне все будто онемело как после наркоза. Я шла за ним, помогала оформить багаж, пила кофе в кафе и безучастно смотрела, как Венсан тревожно поглядывает на часы: не опоздал ли?
Когда Венсан прошел зеленый коридор и исчез в толпе, я встала на ступеньку эскалатора и меня согнуло пополам: я выла как самая простая русская баба, заливаясь слезами. Мне казалось, у меня вырвали жизненно важный орган. Я была уверена, что не смогу жить. «Отними и ребенка, и мужа, и таинственный песенный дар», но верни мне его, Господи. Любовь — это самая большая ложь из всех, придуманных человечеством. Не в смысле, что ее нет — как раз наоборот. Но счастья любовь не приносит.
Расставание подобно болезни. Боль потери приходит приступами, часто внезапно и непредсказуемо. После ухода любимого человека все, к чему он прикасался — проклято. Мои книги, мои вещи, духи, — все пугало и казалось чужим. Я скиталась по друзьям, шутила, пила вино, утешала других , но наш последний день стоял перед глазами. Я оказалась заперта в заколдованном круге и вынуждена была раз за разом, с ужасом и содроганием, переживать это. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь до Венсана была своего рода подготовкой к встрече с ним.
Август шел к концу, и вместе с ним уходили остатки душевного равновесия. Венсан изменился после встречи в России. У него появилась привычка пропадать на несколько дней, а потом появляться вновь как ни в чем не бывало. Один раз мы созвонились в скайпе и мило болтали, как вдруг он показал мне потрясающе красивый ежедневник. Естественно, я игриво спросила, кто его подарил — друзья? Венсан улыбнулся: «Нет, бывшая девушка. Хочешь, куплю тебе такой же?» Меня с головой захлестнул приступ ревности. Я бросила трубку.
Наши отношения превратились в бесконечный маятник — от счастья к несчастью, от несчастья к счастью. Мы ссорились и мирились по десять раз на дню, мы писали друг другу восторженные письма и обменивались посылками по почте: я посылала ему тульские пряники (Венсан их обожал), а он мне французский горький шоколад с вишней. Я распечатывала его фотографии и хранила их тайком между страниц любимых книг — Сашу чтение мало интересовало, поэтому я могла быть спокойной за книжные стеллажи.
Венсан знал, что я продолжаю жить с Сашей, и, возможно, поэтому начал изводить меня рассказами о своей бывшей девушке — поначалу он не называл ее имени, и она превращаюсь в моем сознании в некое подобие богини. С каждым днем мое воображение рисовало ее все прекраснее и прекраснее. Она представлялась мне высокой и тонкой, с черными волосами и белоснежной кожей, изысканным вкусом и низким голосом, погружающим собеседника в подобие сладостной грезы. Я умирала от желания увидеть ее фотографию — но Венсан упорно хранил молчание. В какой-то момент я начала сомневаться в ее существовании — впоследствии оказалось, что я ошибалась. Она оказалась более чем реальной.
До первой настоящей любви женщина и мужчина живут в райском саду неведения. Они счастливы и невинны — и не важно при этом, сколько им лет. А потом вдруг разом наступает прозрение, падение с небес на землю, и приходится открывать в себе демонов, о существовании которых никто не подозревал.
VI
В конце концов я преуспела в своих изысканиях. Бывшую Венсана звали Стеф — сокращенно от Стефани. Она была дочерью португальских эмигрантов, обосновавшихся на севере Франции. Стеф и Венсан знали друг друга с детства, она великолепно владела французским — и, конечно же, португальским, и была отчаянно влюблена в Венсана. Она закончила Сорбонну, чтобы затем отринуть блестящие карьерные перспективы и стать преподавателем французского за границей. Стеф была готова на все, чтобы быть рядом с Венсаном.
Мне восхищала ее любовь. Мне доставляло унизительное удовольствие думать о Стеф: она, с ее блестящим умом, с ее благородством и порывистостью, была в глазах Венсана пустым местом в сравнении со мной. И в то же время я понимала, насколько мне не хватает уверенности в себе и своем будущем — и бесстрашия Стеф. В двадцать с небольшим лет я уже страдала синдромом хронической усталости и резкими сменами настроения. Я проходила периоды затяжных депрессий — и прочно сидела на антидепрессантах, а в голову время от времени лезли навязчивые мысли о суициде.
Саша служил мне своеобразным противоядием от себя самой — но со времени встречи с Венсаном все тревожные признаки глубокой внутренней дезориентации вернулись и еще больше усилились. Возможно, мысли о суициде были связаны с внутренним страхом перед будущим, которое рисовалось мне туманным. У меня было достаточно здравого смысла, чтобы понять: с почти нулевым уровнем жизненных сил мне не сделать карьеру, удовлетворившую бы мои амбиции. А ролью жены я удовлетворяться не хотела.
После возвращения из России Венсан должен был закончить отчет и затем отправиться в Албанию. Стеф ехала за ним. Она была единственной женщиной, откликнувшейся на вакансию. Их разместили в разных городах: его на севере, в Шкодере, а ее в Корче (про себя я еще долго изощрялась в остроумии, обыгрывая говорящее название «Корча»). Об этом он рассказал мне настолько равнодушно, что я моментально почувствовала неладное. Я еще не знала об их совместном прошлом, не представляла себе, насколько они близки, но его безразличие было таким неестественным, что породило во мне волну болезненной паранойи.
Его исчезновения становились все более и более продолжительными — сначала неделя, потом две. Венсан упорно не рассказывал, почему не выходил на связь, но в конце концов во время очередной ссоры он признался, что ездил к Стеф в Корчу. Я не нашла в себе сил ответить и слушала его, молча глотая слезы. Он сбивчиво извинялся и объяснял, что между ним и Стеф ничего нет и не может быть, что в его жизни существует только одна девушка — я. Самое смешное, что я так и не узнала, было бы ли у них что-нибудь или нет.
Однажды утром я проснулась со странным предчувствием конца. Я поднялась, проверила почту и увидела письмо от Венсана. Он купил мне билеты в Албанию. У меня было ощущение полета, лихорадочный озноб охватил меня. Я спросила, не сделать ли Саше кофе. Он с благодарностью поцеловал мою руку и молча протянул чашку.
Зима в этом году началась рано: морозило уже в сентябре. То ли дело было в необычно холодной осени, то ли в чем-то другом, но я не находила в себе сил ни на что. Я вставала каждое утро в одно и то же время, приводила себя в порядок, улыбалась и готовила завтрак, но самые привычные вещи постепенно утрачивали смысл в моих глазах. Я перестала получать наслаждение от хорошего кино и любимых книг, затем еда потеряла вкус — я больше не могла вспомнить, что люблю и что не люблю есть.
Парадоксальным образом моя жизнь разрушалась без малейшего намека на реальную причину. Тихо, буднично и страшно я теряла ощущение собственной значимости. Мне оставалось одно из двух: покончить с собой или уехать. Я выбрала второе.
Я ушла от Саши, не сказав ни слова. Как обычно, я убралась, застелила кровать, пропылесосила, приготовила ужин, купила его любимый сок и воду. Потом я сообразила, что, скорее всего, еще долго не буду нормально есть. Потому я быстро перекусила холодным мясом и запила его пивом. Окончив холостяцкий ужин, я собрала чемодан и уехала в аэропорт. Я никак не могла отделаться от чувства, что умерла. Когда я ехала в авиаэкспрессе, слушая музыку и глядя на пролетающую зелень деревьев за окном, мне казалось, я в каком-то иномирном пространстве.
Забегая вперед, могу сказать: тишина моей жизни с Сашей в нашей белой квартире на окраине Москвы было самым настоящим, что случилось со мной за всю мою жизнь.
VII
Я приехала в Албанию в конце октября и почти сразу же написала внезапное бодрое письмо школьной подруге, чей адрес совершенно случайно сохранился у меня. Я молила всех богов, чтобы она ответила мне. Но этого так и не случилось.
«Как ты? Ты мне приснилась ночью, проснулась — и сразу подумала написать тебе. Здесь вообще снятся очень яркие сны. Здесь — это в Албании.
Мы живем в маленькой квартире на первом этаже, в городе под названием Шкодра. У нас зеленые ставни — и белые стены, привет, сельская идиллия. Над нами живет хозяйка, — черт, в жизни не видела женщины добрее, такое чувство, что нашла себе албанскую бабулю, — а перед домом маленький садик с розами, лимонами и мандаринами.
Здесь я живу с французом, мы вместе с июня — летом он внезапно сорвался ко мне в Москву, мы прожили август вместе (благо родителей почти не было дома) — и оба втянулись в наши странные отношения. Французский настолько сильно проник ко мне в голову, что я вижу сны на французском, использую французские конструкции в русском: разные дикие штуки вроде «взять метро» или «взять автобус».
Венсан смеется и русский учить не собирается, хотя зачитывается Цветаевой. Бесполезно твердить ему, что Цветаева в переводе — не Цветаева…
Каждое утро я варю ему кофе, провожаю на работу — и сама иду писать в соседнее кафе, там чудесный турецкий кофе (Албания под сильным культурным влиянием католической Италии и мусульманской Турции, тут все очень противоречиво). Потом я бегу в булочную за свежим хлебом, встречаю Венсана с работы, слушаю про албанских студентов, не желающих учить французский — и подшучиваю над его снобизмом. Ты всегда говорила, что я сноб — уверяю, я само совершенство по сравнению с французами, невыносимее людей я не видела. Не понимаю, за что я их люблю.
Потом мы приносим священные жертвы в виде молока и мяса двум местным кошкам, иначе они будут штурмовать нашу дверь весь день, — и наступает время сиесты. Жаль, сиеста долго не длится, в Албании очень рано темнеет: как говорят французы, «ночь делается» уже в пять часов. Мы совершаем традиционную вечернюю прогулку до Скадарского озера через цыганские кварталы и маленькие овощные рынки — и возвращаемся смотреть Breaking Bad и Les invicibles (кстати, на удивление неплохой французский сериал, я даже уверовала в современное французское кино).
Я месяц не была в Москве: бросила оба университета (фигурально) и работу. Мы с Венсаном провели выходные в Черногории — и приехали в Албанию. Черногория очень хороша, но Албания неожиданно оказалась ближе.
Вообще не знаю, как мне вернуться в Москву, казалось бы, всего месяц, но сейчас вообще не могу представить себе ни московского метро, ни ритма, а особенно странно, что на следующей неделе сразу три экзамена во французском коллеже и дедлайн для сдачи диссертации. И еще совершенно очевидно, что в следующий раз я смогу увидеть Венсана только в конце января. Возвращаюсь я уже в понедельник».
В понедельник я не вернулась: Венсан сказал, что мой рейс аннулирован. С покупкой обратных билетов приходилось повременить: зарплату Венсану задерживали. У меня внутри все сжалось. Я поняла: он просто не хочет меня отпускать. У меня появилось ощущение, что я больше никогда не вернусь домой.
VIII
Навсегда запомнился пустой холодный дом и далекие голоса албанских детей, играющих у школы. По утрам я обычно сидела на диване, завернувшись в едва греющий плед, и мечтала о чашке кофе, еще лучше — о кофе и булочке. Но плитка стабильно не работала — а еды в доме не было. Он уходил, забыв оставить что-нибудь — утром Венсана бесило абсолютно все. Ключи он мне не доверял — Венсан боялся, что я очарую какого-нибудь албанца или тайно уеду в Москву, одним словом, брошу его. В доме стоял полумрак, электричество мне Венсан включать запретил: «Знаешь, сколько это стоит?!» Интернет не работал. Я сидела на диване с глухо бьющимся сердцем и, что самое парадоксальное, никогда еще не любила его так сильно и не ждала его с таким нетерпением. Я чувствовала себя ужасно маленькой. Окна не открывались, и решетки на них вызывали у меня рвотный рефлекс. Я сворачивалась на диване клубочком и ждала, ждала, ждала…
Венсан обожал сложные логические конструкции. Одной из его любимых была пресловутая дилемма узника. Суть ее заключается в следующем: представим, что есть два заключенных, обвиненных в одном и том же преступлении несмотря на то, что они упорно отрицали свою причастность. Сомнений в их виновности нет, и суд уже назначил наказание для обоих, причем, дал каждому небольшой срок. Однажды заключенные узнают, что если один из них сознается в преступлении, а другой — нет, то первого выпустят на свободу (тем временем второму значительно увеличат срок). Если признаются оба, то назначенный срок так и останется небольшим , но будет больше, чем назначенный изначально, до чистосердечного признания. Что выберут заключенные? Венсан часто пускался в пространные рассуждения, а я думала только об одном: как я умудрилась так глупо заманить саму себя в ловушку?
Когда он впервые меня ударил, я решила, что заслуживаю этого. Я перешучивалась с другом-французом в фейсбуке прямо перед Венсаном — я сама его спровоцировала. Мне казалось, он и сам не ожидал, что ударит меня так сильно. Это случилось 13 ноября, когда телевидение и газеты разрывались от сообщений о жертвах во время теракта в редакции Сharlie Hebdo в Париже. Венсан был на нервах, он не мог себя контролировать.
Я ушла в другую комнату и долго лежала там в темноте, чутко прислушиваясь к разговору Венсана с отцом. Отец был единственным по-настоящему близким человеком для него. Он рассказывал, как они с отцом вдвоем объездили всю Европу, как пешком шли от одной испанской деревушки к другой, точно средневековые паломники, изучая диалекты испанского, и как мать ждала их дома. Она никогда не понимала ни мужа, ни сына, и не хотела уезжать из Еврона. Венсан говорил о ней с жалостью, но как о совершенно чужой женщине. Он никогда не называл мать по имени — и первое время я никак не могла взять в толк, кто такая Изабель.
Уже к концу первой недели в Албании я чувствовала, что все мои жизненные потребности постепенно сводятся к одной — не разочаровать Венсана. Удивительно, как быстро я перестала быть собой. Я боялась курить при Венсане — запах сигарет его раздражал. Мне пришлось выбросить любимый свитер, потому что, по уверениям Венсана, он насквозь пропах «Мальборо». Свитер оказался единственным, что спасало меня от холода, и я ужасно по нему скучала. «Сама виновата, меньше надо было курить», — пожал плечами Венсан и с головой ушел в изучение труда римского историка Светония о двенадцати цезарях. Мне удалось спрятать пачку сигарет от Венсана — и сам факт наличия сигарет меня успокаивал.
Я оборвала все контакты с друзьями и семьей, Саша мне, конечно же, больше не звонил и не писал. Мне ужасно хотелось посмотреть на его странички в соцсетях, чтобы хотя бы отчасти понять, чем он живет теперь, что делает, нашел ли уже кого-нибудь или взял наконец отпуск и махнул на другой конец света. Но даже когда мне удавалось подключиться к интернету, я не заходила в фейсбук Саши. Я не хотела, чтобы Венсан узнал о моем интересе к бывшему. Он оказался очень ревнивым. Когда мы приходили в кафе, албанцы смотрели на меня черными неподвижными взглядами, а Венсан начинал злиться. «Ты провоцируешь их». Но что я могла сделать, если они не отводили от меня глаз? Даже в Италии, где русским девушкам не дают прохода, я не была настолько популярна.
С другой стороны, я нигде не видела людей приветливее, чем в Албании. Албанцы — дружелюбный народ, они умеют веселиться и совершенно не волнуются по поводу кризиса и катастрофической нехватки денег. Много лет Албания развивалась изолированно от остального мира, вне религии и социальных революций, и даже сейчас она по-прежнему стоит особняком. Албанские города располагаются в долинах между горами, водители гордо рассекают на украденных мерседесах, а на мощеных улочках готовят самые вкусные в мире мясные сосиски. Их продают всего за два лека с теплой булочкой.
Наша хозяйка оказалась милейшей женщиной, приносившей нам свежую хурму время от времени, но я не обманывалась на ее счет: мы служили ей чем-то вроде реалити-шоу. Когда я выходила, я всегда замечала ее силуэт в оконном проеме. Когда я возвращалась, она появлялась словно бы из ниоткуда, чтобы поздороваться — в Албании традиционно сдается первый этаж, а хозяева селятся на втором. У меня создавалось параноидальное впечатление, что она была повсюду. Ее навязчивость Венсана приводила в бешенство. Он улыбался хозяйке и был очаровательным, но стоило ему зайти в дом, маска нормальности сразу же слетала с его лица. Он становился собой.
IX
Это случилось в воскресенье. Наверное, стоило увидеть в этом тысячу и один тайный смысл: светлый воскресный день со всей его мистической подоплекой, моя яростная подростковая религиозность — и убийство Венсана. Но на самом деле все случилось до ужаса буднично. Мы пошли на прогулку — впервые за два месяца, проведенные мной в Албании, мы гуляли днем. Перейдя через полуразвалившийся мост мы медленно двинулись к Скадарскому озеру. Я молчала. Я боялась говорить, если он ко мне не обращался. Свежий синяк на щеке неприятно побаливал. Я смотрела на пенящуюся воду реки.
В тот день я в первый и последний раз увидела Скадарское озеро днем. Ничего красивее невозможно было представить. Хотя, допускаю, у меня довольно своеобразные представления о красоте. Венсан, например, казался мне невероятным красавцем, а мои подруги реагировали на него абсолютно спокойно. «Самый обычный», — пожала плечами моя кузина, возвращая мне телефон, — «но глаза у него добрые».
Как-то раз я прочитала про один забавный эксперимент. Двум группам испытуемых предлагали посмотреть на шесть или семь фотографий. Первой группе сказали, что перед ними великие деятели науки и искусства, а второй — что это известные серийные убийцы (хотя фотографии оказались одними и теми же). Цель эксперимента была проста: описать людей, которых видели испытуемые. Первая группа писала про умные высокие лбы, горящие энтузиазмом глаза, морщины, выдающие в незнакомцах гениев науки и искусств, а вторая, разумеется, нашла черты, говорящие о склонности к насилию и жестокости. Все относительно.
Облака огромными голубоватыми кляксами расползались по небу, водная гладь сверкала как россыпь бриллиантов у моих ног. Венсан плохо себя чувствовал. Целый месяц он мучился кашлем и подолгу сидел вечерами, закутавшись в шерстяное одеяло и пытаясь согреться. Он рассказывал о последних днях Альбера Камю и его неожиданной гибели в автокатастрофе. Венсан шел по самому краю озера, хотя лед был тонким и мог в любой момент треснуть. Постепенно он уходил все дальше и дальше от берега — а я осталась его ждать. Что-то подсказывало мне: добром это не кончится. Однако Венсан казался беспечным и почти веселым.
Помню, как на мгновение облачная пена расступилась и солнце осветило его лицо. Казалось, его кожа светилась изнутри, точно у призрака из старых фильмов. Я смотрела на него отстраненно — он казался мне незнакомцем из полузабытого сна. Неожиданно для себя я поняла: что-то во мне безвозвратно умерло. Что-то, любившее Венсана больше жизни. Он улыбнулся мне. На другом берегу взвилась в воздух стая диких птиц, он резко обернулся — и лед издал звук похожий на рев раненого животного. Точно в замедленной съемке льдины треснули и разошлись, обнажая черную плоть озерной воды. Солнце зашло за тучи, вокруг резко потемнело. Венсан бросил на меня последний удивленно-отрешенный взгляд человека, осознавшего неизбежность происходящего — и начал погружаться под воду. Все чувства во мне обострились до предела: клянусь, мне кажется, я слышала его дыхание и бульканье выходящего из легких воздуха, судорожное биение умирающего сердца и шевеление губ, шептавших мое имя.
Сейчас уже сложно сказать, почему я убила его. Наверное, слово «убийство» не слишком подходит для описания случившегося. Венсан хотел умереть, а я не нашла в себе силы ему помешать. Он мучил нас обоих, и кто страдал больше, не известно. Я стояла на берегу и смотрела, как в прозрачной воде его тело погружается все ниже и ниже, как постепенно темнеют его руки и исчезают в глубине Скадарского озера — точно вода растворяла в себе Венсана как соляную фигурку.
Когда он тонул, я не закричала и не позвала на помощь. Присев на ближайший камень, я задумчиво закурила, и выпустив дым из ноздрей, почувствовала себя свободной. Тишина обступила меня. Солнце скрылось, облака вновь клубились над моей головой, а неподалеку играли цыганские дети. Докурив, я поднялась и медленно пошла обратно. Мне почему-то страшно хотелось спать — забыться на сутки или двое, очистить память и начать все с самого начала.
Я вернулась в дом Венсана. Никуда не торопясь, доела завтрак и выпила кофе, листая первую попавшуюся книжку. Мне вспомнилось, как Мур, сын Цветаевой, увидев мать повесившейся, сел за стол и принялся за остатки рыбы. Мне стало тошно от самой себя. Я встала и взглянула на часы. Половина третьего. Я подключилась к интернету, по привычке опасливо оглянувшись на пустующее место Венсана, и взяла его карточку. Я купила первые попавшиеся билеты — самолет улетал в Вену вечером, в одиннадцать часов. Нужно было собирать вещи — иначе я не успела бы в аэропорт. Я понимала: мне нельзя оставаться на ночь в доме Венсана. Я не боялась полиции. Кто будет искать умершего преподавателя французского в далекой Албании?
Ехать в Вену не стоило, но я не могла заставить себя вернуться в Москву. Мне казалось, я так замарана историей с Венсаном, что теперь не имею права вторгаться в жизнь людей, которых оставила. Кроме того, я хотела прийти в себя и подумать, что делать дальше. После мне каждую ночь снилась Албания и черная гладь Скадарского озера, белые руки Венсана. Только потом мне подумалось: ведь он даже не пытался сопротивляться. Как будто бы Венсан заранее знал, что единственный способ для меня жить если не в счастье, то в спокойствии — это избавиться от него.
В Вене у меня почти не было денег. Я жила в хостеле. Мне повезло: в стоимость был включен завтрак. Разумеется, за семь евро в сутки еду нам давали соответствующую. Аккуратно сервированная овсянка отдавала пластмассой, тосты всегда были холодными, а джем — химическим на сто процентов. После завтрака я отправлялась в парк Аутгарден. Я гуляла до тех пор, пока не валилась с ног от усталости, и тогда шла спать в хостел. Вечером я ужинала булкой с молоком, купленными в маленьком турецком магазинчике по соседству. Затем ночью повторялся один и тот же ритуал: я просматривала страничку Венсана в фейсбуке, его скайп и ватсап. Последнее сообщение 20 дней назад, 24, 26… Вот уже месяц, как он был мертв.
Смерть обрекает на одиночество. Я ни с кем не могла поделиться случившимся. Я боялась. Один раз я зашла в греческую православную церковь, расположенную недалеко от набережной, но не смогла заставить себя попросить об исповеди.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Когда я вернулась в Москву, в нашу белую квартиру с видом на церковь, Саша не сказал ни слова. Он отдал мне ключи, рассказал о новостях и предупредил, что ничего не говорил своей семье о моем отъезде и нашем разрыве. Он принял меня обратно в свою жизнь, пахнущую мужским одеколоном «Шанель», в свою мертвенно стерильную квартиру и свою постель. Утром я готовила ему кофе, вечером встречала с работы и улыбалась, слушая, как прошел его день. Я любила его. Но я не была счастлива. Да и не могла быть. Я хотела того, чего никто из смертных не в состоянии получить. Я хотела полной близости от сегодняшнего момента до самой смерти. Я мечтала о гарантиях, которых ни один живой человек не в состоянии мне дать.
Мы готовились весь день к встрече с моими родителями. Мы купили полусухое красное и зеленые оливки, я запекла курицу с чесноком и сварила рис, а на десерт подала пирог с яблоками. Мы смеялись, пили вино, разговор лился рекой, сигареты стремительно кончались, я смотрела на родителей и Сашу и думала, что никогда не чувствовала себя гармоничнее. За окном светилась ночная Москва.
Вечером Саша мыл посуду и рассказывал что-то, а я сонно наблюдала за ним, вертя в руках дымящуюся сигарету. Он поцеловал меня в лоб, и мы вместе ушли спать. Я проснулась в три — час быка. Я ощущала смутное волнение, лихорадочную дрожь — своего рода frisson, озноб, как сказали бы французы. Еще толком не понимая, что я хочу делать, я пришла на кухню. Руки сами потянулись к забытой на столе бумажкой салфетке и ручке.
Я писала всю ночь. После долгого перерыва слова меня не слушались, я все время сбивалась на французский — но впервые за все это время я была по-настоящему счастлива. Счастье — хрупкая материя, настоящая вещь в себе. И если любовь кажется нам таинственной, то еще более загадочно и непредсказуемо ощущение счастья. Ошибочно связывая его с близостью, физической или духовной, мы сбиваем себя со следа. Счастье можно найти только в себе самом. Обычные вещи и жизнь «как у всех» не казались мне чем-то особенным, но вдруг именно в них открылась удивительная красота. Быт ужасен только тогда, когда нет ничего, кроме него.
Читайте «Литературно» в Telegram, Instagram и Twitter
Это интересно: