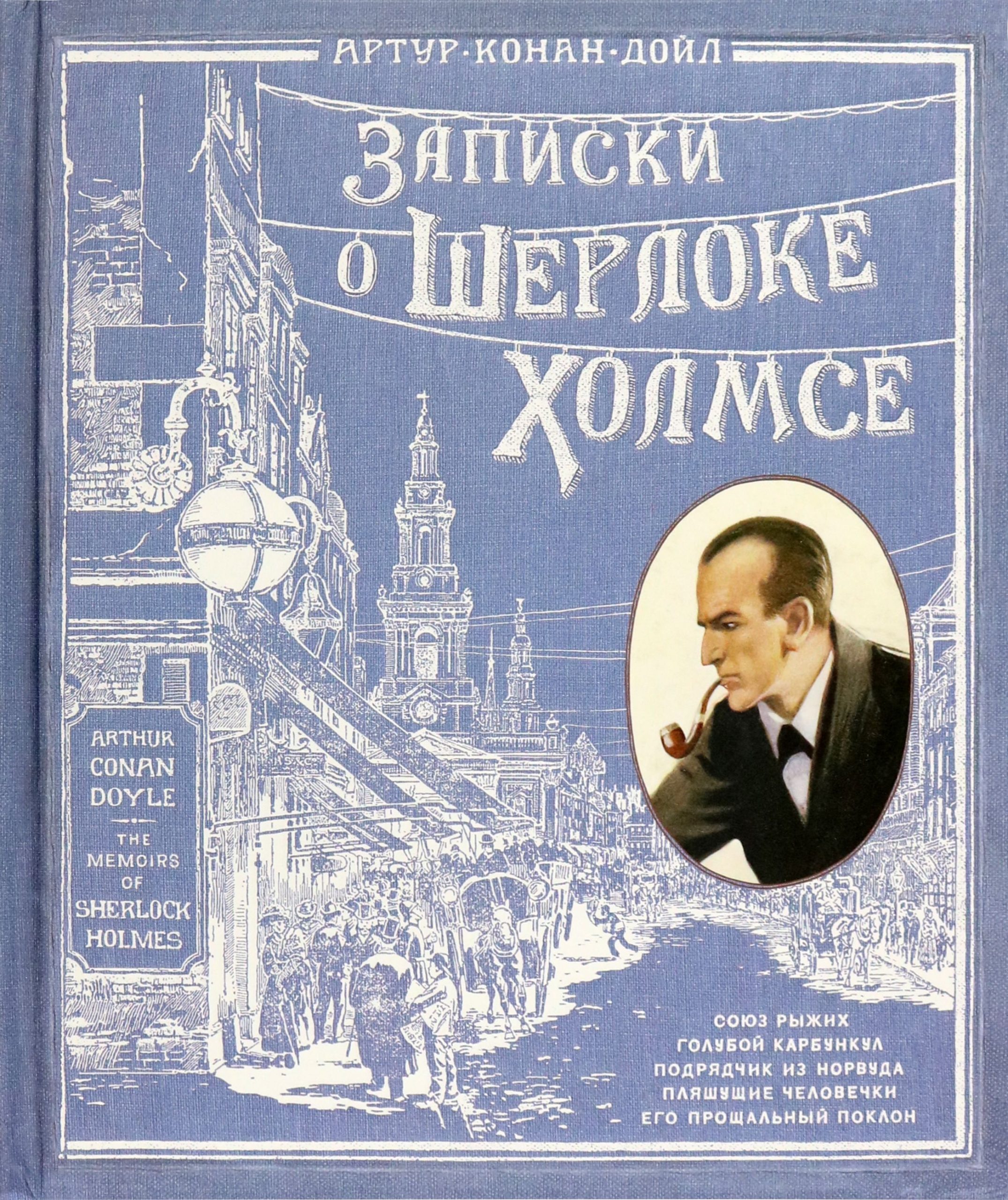В последнее время Герман Садулаев выпускал сборники рассказов и эссе, но в начале 2017 года порадовал читателя и долгожданной большой прозой — романом «Иван Ауслендер» о преподавателе санскрита, ставшем оппозиционером, затем бизнесменом, потом путешественником и, наконец, духовным учителем. Об этой книге, попавшей в длинные списки «Нацбеста» и «Ясной поляны», рассказывает Андрей Аствацатуров — петербургский писатель, филолог, друг Садулаева и, по всей видимости, прототип одного из персонажей романа, американиста Рюрика Асланяна, большого знатока книг Генри Миллера и модного левого интеллектуала.
Современный литературный процесс интересен странным свойством — упрямым нежеланием говорить о нынешнем времени. Такое случается, когда в стране все стабильно, никаких обозримых перемен не предвидится, когда все вокруг вызывает зевоту как швейцарские городские пейзажи, когда время не идет, не бежит, а по выражению Германа Садулаева, как-то медленно и обстоятельно налипает. Но наш современный российский случай кажется совсем другим: экономическая нестабильность, идеологическое размежевание интеллигенции, внешнеполитическая напряженность, присоединение новых земель, приграничные войны, — все это вполне чревато сюжетностью и языковыми поисками.
И все же наши ведущие писатели избегают говорить о времени, избегают его артикулировать. Ультрасоциальный Захар Прилепин, которого сложно упрекнуть в отсутствии интереса к современной политике, выпускает в 2014 году роман «Обитель», рассказывающий о лагерных событиях конца 1920-х. Евгений Водолазкин, стремительно ворвавшийся в литературу несколько лет назад и занявший в ней одно из ведущих мест, сочиняет «Лавр» (2012), роман-житие, действие которого разворачивается в условном древнерусском прошлом, а затем, словно сговорившись с Прилепиным, пишет «Авиатор» (2016), также разместив события в раннесталинской эпохе и выслав своего персонажа все в тот же соловецкий лагерь. Дмитрий Быков, пожалуй, ближе всех принимающий к сердцу современность, выпустив «Остромов» (2011), заявляет, что современность его не интересует (как писателя, разумеется, а не как поэта-гражданина), что его куда больше занимают 1920-е, когда в русской культуре, по его мнению, происходило все самое интересное.
Примеры невнимания современных авторов к нулевым и десятым можно множить до бесконечности. Маргарита Хемлин, Андрей Иванов, Владимир Шаров, Сергей Шаргунов, Илья Бояшев, Гузель Яхина отправляют своих персонажей либо в историческое прошлое (давнее и недавнее), либо в условный мир, либо в экзотические широты, лишь бы прочь от нынешних десятых.
И все же писатель – так уж мы устроены – говоря о чем угодно, всегда говорит только о себе и только о своем времени. И перечисленные авторы – никакое не исключение. Но парадокс заключается в том, что они говорят о своем времени, но не используют знаки этого времени, а берут их из других эпох. Выходит, современность не генерирует собственных сюжетов и собственных проблемообразующих знаков?
Новый роман Германа Садулаева «Иван Ауслендер» (2017) почти идеально иллюстрирует эту тенденцию. Разместившись в политической и бытовой современности, почувствовав ее со всей остротой, пропустив через себя ее силовые линии и конфликты, настроив нас на социально-политическую, любовно-семейную и кампусную проблематику, повествование романа «Иван Ауслендер» вдруг устает от нее, теряет к ней интерес. И социальный роман вместе с семейно-любовным и кампусным оборачивается системой сменяющих друг друга снов, лекций, эссе, политических манифестов, проповедей, философских трактатов. Голос Времени постепенно делается все тише, а потом и вовсе замолкает, уступая сцену голосу Абсолюта. Трехмерная реальность теряет объемность, постмодернистски укладывается в знаки, которые начинают между собой увлекательную игру.
Мудрость (философия) и искусство, как известно, разные формы деятельности. Мудрость не обязана быть эстетической, а искусство не обязано быть мудрым. Мудрость требует логики идей, а искусство – логики воображения, логики образов, порождающей себя поэтики. Герман Садулаев неоднократно признавался в том, что мудрого, этического в его книгах куда больше, чем эстетического. Что его волнует скорее интеллектуальный поиск, нежели художественный, что его романы – социальные манифесты. Стало быть, они подчинены логике идей. Вот и сейчас, в самом начале повествования рассказчик обещает нас познакомить со взглядами его персонажа Ивана Ауслендера. Именно со взглядами, а ни с чем-то иным. Тем самым, идеология, этика как будто объявляются первостепенными, а литература – вроде как дополнением, оформлением, приятным гарниром. Ауслендер произносит речи, читает лекции, сочиняет манифесты и трактаты, постепенно, сам того не желая, превращаясь в мудрого наставника, в гуру. Он постоянно погружен в размышления, в созерцание мира и Абсолюта; ему даже снятся философские сны.
Значит ли это, что перед нами роман, выстроенный в соответствии с логикой идей? Роман интеллектуальный, «головной», «профессорский», наподобие тех, которые сочинял Олдос Хаксли? И да и нет…
Здесь, как мне кажется, мы имеем дело с идеями, с мудростью, которая не подчиняется художественным моделям, а сама их порождает. Идеи у Германа Садулаева отливаются в образные системы, которые начинают развиваться в соответствии с логикой образов. Но не только образы, но и сам язык начинает провоцировать движение текста, увлекая мысль не туда, куда ей следует двигаться.
«Потом Ванечка думал о серой реке Неве. Хотя тогда она была не серой, а синей. Она была синевой, разлитой под ноги, отраженной в земле си-Невой. Ванечка смотрел на реку и думал: это река Нева. Не-Ванечкина река, другая. Значит где-то должна быть река Ва. Может быть она на противоположной стороне Земли? Ванечка вспоминал школьный глобус. Что там было напротив реки Невы? Наверное, Америка. Штат Невада. Нева-да, снова Нева. Где же искать реку Ва?»
Еще один прием – чисто постмодернистский: текст, образы увлекают идею в те зоны, где она, только что поразив нас своей глубиной, выглядит абсурдной и идиотической. Такими в романе становятся рассуждения филолога Асланяна, подхватывающие мысль Ауслендера, выстраданную в тяжелых раздумьях.
Текст литературный, рожденный мыслью, отвергает всякую окончательность. «Болезнь» идеи, ее недолговечность по-видимому заложены в языке, даже в языке священном. Молитвы и трактаты в романе «Иван Ауслендер» вдруг начинают нам остроумно подмигивать цитатами, взятыми невесть откуда, например, из песен Бритни Спирс. Идея демонстрирует слабость, неадекватность уже с самого начала. С другой стороны, подобным приемом Герман Садулаев показывает, что язык много мудрее нас, тех, кто им пользуется. Логика романа такова, что аргументы сменяются контраргументами, которые тоже приводятся к отрицанию.
Главный персонаж романа, не слишком красивый, не слишком счастливый в семейной жизни, не слишком успешный в науке, ученый, преподаватель санскрита Иван Ауслендер неожиданно для самого себя вовлекается в политическую белоленточную жизнь. Прежде замкнутый, дистанцированный от всех, даже от собственной жены (его фамилия означает «иностранец», «чужак»), он чувствует прилив сил, единение с народом. Ауслендеру кажется, что он преодолел запертость, совпал с существованием. Но в действительности он оказался перед знаковой системой, в мире иллюзии, вовсе не динамичной, как казалось на первый взгляд, а, напротив, статичной. Белоленточное движение и сопутствующий ему абсурд перестают быть интересными. Жизнь не укладывается в жесткие рассудочные схемы, консервативные, либеральные, марксистские. Отношения людей друг с другом, с монархом, с президентом, с природой, как выясняется, строятся на основе ритуальных практик. Каждая из них возвращает и человека, и мир к Изначальному, которое некогда воспринималось как благо, к истоку, к чистому существованию и становлению. Ауслендер отдаляется от соратников по борьбе с режимом, от политики, от бытовой реальности и, как это ни парадоксально, преодолевая связь с внешним миром, приобщается к становлению. В этом ему помогает восточное вероучение, система знаков и практик. Впрочем, структура размышлений Ауслендера, несмотря на обилие индийских слов, по сути напоминает современную лютеранскую теологию, в которой Бог есть время, в которой человек, внутренне совпав с существованием, ощущает собственную конечность и, соответственно, свое место во Вселенной. Последние главы книги строятся по модели катехизиса. Обозначается проблема, задается вопрос, а затем следует внятный, иногда парадоксальный ответ. Впрочем, Истина, которой придерживается Ауслендер, до конца непостижима, и задача персонажа — не ответить на вопросы, а снять все возможные вопрошания и противоречия.
Роман Германа Садулаева симптоматичен для нашего времени. И крайне важен. Он адресован не любителям однодневной беллетристики с завязками-развязками и детективным сюжетом, а тем, кто видит в литературе живой, противоречивый процесс, тем, кто стремится выйти за пределы собственных стереотипов. Роман предлагает всякому, кто готов мыслить, увлекательное интеллектуальное и эмоциональное путешествие. Я отправился в это путешествие, а потом перечитал роман еще дважды. И ни разу не пожалел.