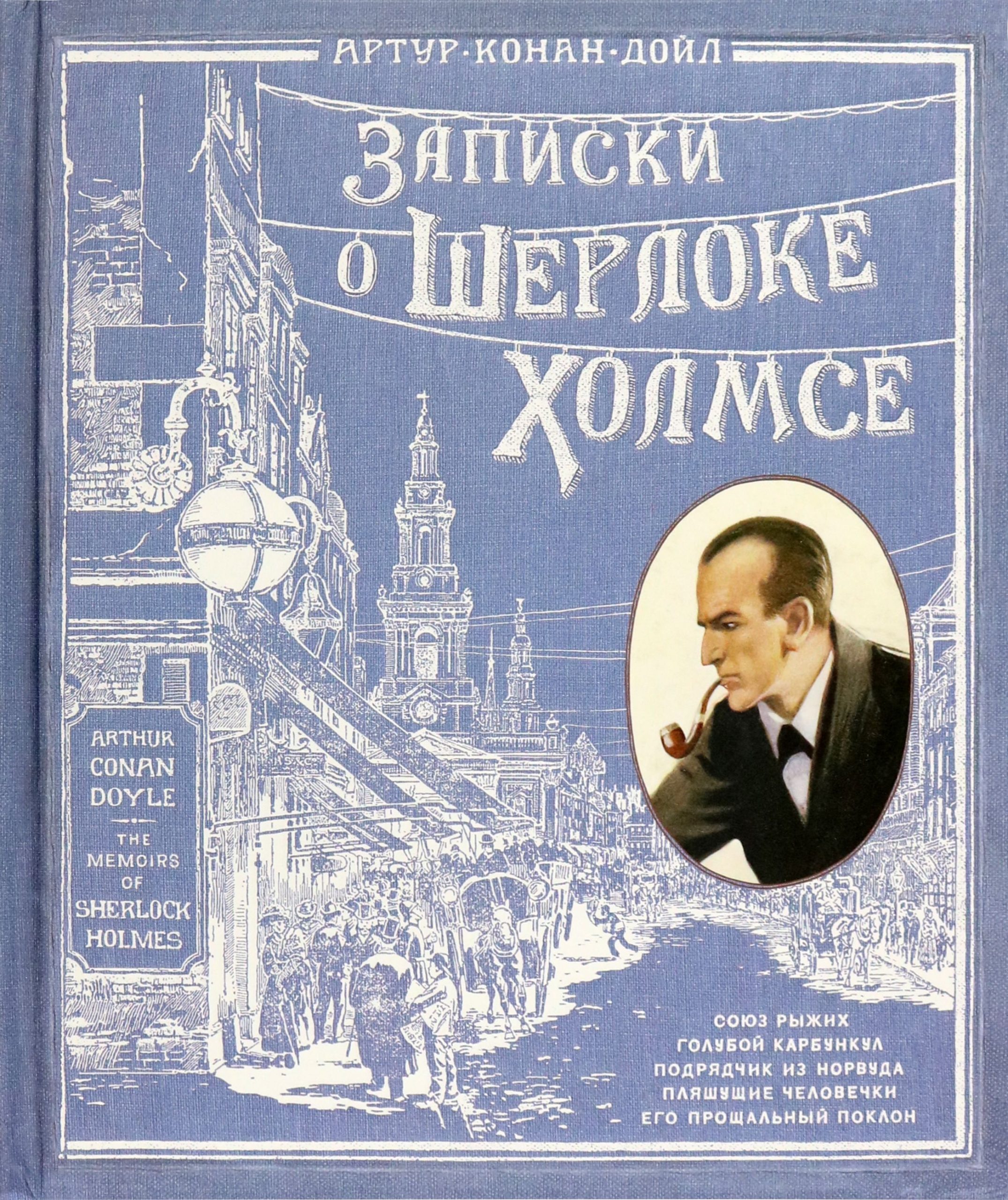Недавно в «Редакции Елены Шубиной» вышел роман финалистки «Нацбеста» и «Лицея» Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари». О травмах и насилии, футурологических прогнозах, преимуществах чипирования и теориях заговора Вера Богданова рассказала редактору «Литературно» Арине Буковской.
Одна из центральных тем вашей новой книги — насилие над детьми. Как получилось: роман начал выстраиваться вокруг этой темы или наоборот — она пришла уже в процессе создания текста?
Все началось с того, что в 2018 году я прочла о Лазурненской школе-интернате, воспитанники которой подверглись сексуальному насилию. Меня поразило общественное безразличие, которое окружало эту ситуацию. С одной стороны, когда родители приемных детей обратились в СМИ, пошла волна, детям сочувствовали, возмущались, негодовали. Но при этом чувствовалось, что многим проще закрыть глаза, пройти мимо страшной грязной темы, не пачкаться. Это равнодушие ужаснуло. В 2017 году был суд над двумя мужчинами из села в Кировской области, которые три года водили к себе домой детей из интерната, расположенного неподалеку, поили водкой и оставляли ночевать со всеми вытекающими. Три года! В селе. Потом, когда туда стали приезжать журналисты и расспрашивать местных жителей, те отвечали: ну, что-то мы такое видели… СМИ делали броские заголовки: «Жители села шокированы тем, что узнали о своих соседях…» Шокированы? Серьезно? Вы три года смотрели, как эти два урода водят к себе детей, и никто, никто не заявил, пока к вам не пришли и не спросили, а что тут вообще происходит?
В Лазурненской школе-интернате ситуация стала известна, хотя ее пытались замять. Дети долго молчали о случившемся. Они и приемным родителям рассказали как бы между прочим. Произошедшее для них было чем-то самим собой разумеющимся? Они не осознавали его ужаса? На самом деле это свойство психики — капсулировать страшные вещи и убирать их подальше. Про это я и хотела рассказать — как психика спрятала весь гнев и боль, но из-за триггера глубоко спрятанное открылось вновь. Это случилось бы рано или поздно. Не один триггер, так другой. Это как курить на бочке с керосином — когда-нибудь точно рванет. В какой-то момент я поняла, что не могу об этом не написать.
Текстов о травмах становится все больше и больше. Вы сознательно влились в эту тенденцию?
Сейчас такое время, люди проговаривают свои травмы. В обществе снижается толерантность к насилию, а когда что-то становится ненормальным, это больше не прячут в тени, а начинают обсуждать. Чем больше мы освещаем проблемы, тем большая вероятность, что найдутся решения. Все наши разговоры, шум, хайп — они работают на решение этих проблем.

Когда читаешь новости, кажется, что насилие только множится.
Думаю, ощущение возникает как раз потому, что об этом стали больше писать. Если в девяностых у подъезда убивали братка, газеты молчали, потому что такое было почти в порядке вещей. Если что-то подобное произойдет сегодня, шума будет больше. Кроме того, информация стала доступнее. Любой может проораться в фейсбуке: черт возьми, со мной произошла несправедливость! И есть большие шансы, что друзья и подписчики подхватят, помогут, расшарят. Поэтому мы стали больше говорить о личном и насущном: появилось ощущение, что можно решить проблему всем миром. Можно тегнуть любую компанию и спросить: эй, почему у вас служба поддержки не работает? У меня перед подъездом дыра глубиной в три метра — доколе? Помогите, Аэрофлот не захотел вести нашего кота! Появилась возможность быть услышанным, повысился уровень жизни и безопасности — и мы начали свободно говорить о своих проблемах.
Плюс травму сегодня не так стыдно обсуждать. Раньше было не принято выносить сор из избы. Сейчас такое тоже встречается, особенно у старшего поколения: молчи, не рассказывай, люди будут показывать пальцем… Хотя, казалось бы, пальцем должны показывать на агрессора, преступника, насильника — но не на жертву. С какой стати должна стыдиться жертва? 
Травма вашего героя взрывоопасна. Она не только разрушает его самого, но и ломает миры, в которых ему не посчастливилось находиться. Действительно ли травматический опыт, на ваш взгляд, может сделать из человека непобедимого, хоть и несчастного воина?
Таких примеров полно. Многие травмированные люди зарабатывали миллионы, чтобы доказать что-то миру или себе. Это становится частью мотивации — жить вопреки. Травма может сломать, а может — как в случае с Павлом Чжаном — закалить, стать внутренним стержнем. Но с одной стороны это тебя поддерживает и толкает вперед, а с другой — продолжает подтачивать. Разрушает жизнь, твою и окружающих. Павел не любит себя и, соответственно, никого не любит. Он видит всех через призму своего страшного опыта. Каждый для него подлец, каждый хочет подсидеть, желает зла. Это отравляет как радиоактивный элемент. Если бы Павел Чжан пошел к психотерапевту и долгие годы прорабатывал свое прошлое, была бы совсем другая история. Но тогда не случилось бы книги, и никакую систему Павел бы не сломал.
Травмированные люди — как пассионарии? Нужны, чтобы двигать мир?
Не обязательно всех травмировать! Но лично я действительно люблю деятельных героев. Если он страдает-страдает, а потом книга закончилась — мне не интересно. Героя «Маленькой жизни» Янагихары хотелось подтолкнуть: давай, соберись, давай! Я верю, что почти каждый может встать и пойти. Упал, встал и пошел. И это тоже хотелось передать. Хотя ситуации, конечно, бывают разные. В романе мне нравилось играть на контрасте и сравнении двух героев: Павла и Игоря. Они оба осиротели в детстве, но получился разный результат. Игорь был любимым ребенком в семье, потом попал не в детский дом, а к своей бабушке. Он вырос с ощущением того, что любим и ценен. У него есть заряд и ресурс доверять людям. У Павла этого нет: ни доверия, ни любви. На самом деле он и в детский дом попал уже жертвой, травмированный холодной жестокой матерью. Он думает: почему это случилось не с другим мальчиком, почему предложили мне? Потому что люди, как животные, чувствуют сломленных. Чувствуют потенциальную жертву.
Вы тоже могли бы распознать потенциальную жертву?
Думаю, если понаблюдаю, то смогу. Я читала про исследование, в котором преступникам в тюрьме показывали на видео, как из метро выходят люди. И предложили из этих людей выбрать жертву — кого бы вы ограбили, на кого бы напали. Преступники указывали на тех людей, кто действительно в прошлом уже подвергался физическому или сексуальному насилию. Это страшное чутье. 
Вера, вы любите теории заговоров?
Мне кажется, заговоры — это такое колосящееся поле смыслов, страхов и скрытых желаний. И попыток переложить ответственность: у нас все наперекосяк не потому, что мы не убираемся в подъезде, а потому что приехал Обама и написал в лифте. Когда был карантин, я слушала подкаст Александры Архиповой, которая рассказывала о том, что люди думают в связи с ковидом. Она приводила два исследования, проведенные в России и в Англии. Их результаты были практически одинаковыми. Люди верили, что ковид придумали китайцы, чтобы захватить мир. Дальше был Билл Гейтс со своими чипами. То есть про чипы думали не только мы и Никита Михалков — про них думали и в России, и в Великобритании, и в Америке. Это было международное помешательство. Люди остались в четырех стенах, их заперли. Они сели в интернетах и начали дружно бояться. Как котенок Гав: давай бояться вместе. Не думать же, действительно, о заразе, которую неизвестно как лечить, которая неизвестно как повлияет на твой организм, — это правда очень страшно. Лучше думать о чипах.
Я подбирала фактуру для романа еще до ковида — по всяким форумам о теориях заговора, смотрела, что наиболее распространено у нас в стране. Кстати, в фантастической литературе тема чипирования — далеко не новинка. А когда в пандемию заговорили про это массово, я испугалась, честно говоря. Тема вдруг стала невероятно актуальной, слишком актуальной — до кринджа, когда говорить об этом уже неприлично. Причем я совершенно не ожидала, что выстрелят именно чипы, тут совпадение. Хотя, с другой стороны, для романа я все-таки выбирала самые обсуждаемые темы — но тогда они находились на дне, были скрыты под водой. Когда же случился шторм, их вынесло наружу, что было, то и всплыло. Как говорится, других историй у нас для вас нет. Люди давно и с нетерпением ждут, что их начнут чипировать.
Вы бы вшили под кожу чип?
Я бы вшила чип, потому что это удобно. Не нужно сто паспортов, загранпаспортов, СНИЛСов, денег, кошельков и так далее — все у тебя в запястье. Я думаю, мы к этому придем рано или поздно по причине тотальной лени и нежелания терять документы, время. Государству это тоже очень выгодно.
Как раз об этом в романе сказано много.
Я все, конечно, гиперболизировала. Раздула страх до максимальных размеров. Хорошо: все боятся чипов. Представим, что может случиться самое страшное из-за этих чипов. Что кто-то попытается на тебя влиять? Тебя выключить? Давайте рассмотрим это поближе…  Все остальные технологии я старалась делать максимально реалистичными: не улетать в космические дали, а скрестить футурологические прогнозы с нашей реальностью. Например, когда будет автопилот, автовладельцам все равно придется иметь навыки вождения, чтобы в случае чего перехватывать управление. Или про АR-очки. Они и сейчас есть, правда более массивные. Когда найдется удобный способ вывести на стекла этих очков рабочий стол ноутбука, планшета или смартфона, начнутся массовые продажи. Буквально год-два после этого, и мы все будем в таких очках.
Все остальные технологии я старалась делать максимально реалистичными: не улетать в космические дали, а скрестить футурологические прогнозы с нашей реальностью. Например, когда будет автопилот, автовладельцам все равно придется иметь навыки вождения, чтобы в случае чего перехватывать управление. Или про АR-очки. Они и сейчас есть, правда более массивные. Когда найдется удобный способ вывести на стекла этих очков рабочий стол ноутбука, планшета или смартфона, начнутся массовые продажи. Буквально год-два после этого, и мы все будем в таких очках.
Какой из футурологических прогнозов своего же романа кажется вам наиболее страшным?
Цифровая зависимость — это самое страшное. Мы буквально в полушаге от нее. Я читала о центрах реабилитации от сетевой зависимости в Азии — там их уже хватает. Себе я установила на телефон программу, которая показывает, сколько времени провожу в интернете. Это было жутковато. За прошлые сутки я провела в телефоне восемь часов. То есть восемь часов я спала, восемь провела в интернете, а все остальное время жила. Это 240 часов в месяц — десять суток из тридцати. Я попробовала не выходить в интернет и поняла, что не могу. Как алкоголик видит спиртное, так я вижу телефон и сразу в него лезу. Недавно летала в Мурманскую область кататься на снегоходах. Первые дни в гостинице были проблемы с интернетом, и совершенно потерянные люди ходили по коридорам и не понимали, как им находиться в этой реальности, откуда невозможно сбежать в телефон. И это действительно проблема, уже сейчас.
Как же вы успеваете книги писать?
Каждый день понемногу, хотя не всегда получается. Есть и другая работа, поэтому на текст остается время вечером и ночью часа по два-три. Сначала я разрабатываю поэпизодный план романа. Этим могу заниматься полгода: продумываю сюжет, чтобы все было взаимосвязано, ищу фактуру, источники. Когда источники найдены, нужные статьи прочитаны, все продумано и уложено в таблицу, начинаю писать текст. И тогда работа уже идет быстро. Я вижу роман как серию эпизодов, которые можно двигать, менять местами, по-разному сочетать. Для меня это пазл. Поэтому нет проблемы что-то отредактировать или вырезать кусок. Бывает, что в процессе возникает ощущение, что текст не пишется, нет какой-то химии, магии. Значит, возникла неувязка в сюжете, что-то не работает. В этом случае нужно отстраниться и понять, что именно пошло не так, и исправить. Когда текст действительно живет и дышит, он и пишется быстро.
Вы учились в Creative Writing School. Нужны ли авторам школы литмастерства?
Даже у великих писателей были свои учителя, авторы, на которых они ориентировались. Конечно, невозможно научить создать шедевр, но такой цели перед школами литературного мастерства и не стоит. У них есть цель научить человека смотреть на свой текст: искать слабые места, привносить в него что-то новое. Развиваться, идти вперед, находиться в литературном процессе. Да и вообще, когда еще удастся поучиться у Ольги Славниковой или Марины Степновой? На мой взгляд, это само по себе бесценно: пообщаться с писателем такого уровня и что-то перенять. Например, у Ольги Славниковой — внимание к деталям, их проработку. Умение находить тончайшие оттенки значений, прорабатывать каждое предложение.
Ранее вы публиковали фантастику и янг-эдалт — под псевдонимом. Почему «Павла Чжана» решили выпустить под своей фамилией?
Мне надоело скрываться. Если в современной нежанровой прозе в России автора-женщину еще воспринимают, то в фантастике до сих пор все довольно сурово. Когда я выходила с первым романом, мой псевдоним был таким, что невозможно определить, русский он или иностранный, мужской или женский — для того, чтобы убрать предрассудки. Фантастика — это своя тусовка, своя атмосфера. Конечно, женщины-фантасты существуют. Но если на Западе они, например, активно получают премии — ту же «Небьюлу» — и это в порядке вещей, то в России очень много звезд должны сойтись, чтобы писательница получила фантастическую награду. Ну и читатель фантастики — это в среднем мужчина 40-60 лет, он вряд ли заинтересуется Верой Богдановой. Когда моя вторая книга вышла под псевдонимом Веры Огневой, и появилась моя фотография — на тот момент я к тому же была блондинкой — пошли комментарии: ну вы посмотрите на нее, разве она может написать что-то хорошее? Вы ее видели вообще?
Сейчас — другая проза, другая аудитория, я тоже давно не блондинка. И другое отношение у меня самой: я не сто долларов, чтобы всем нравиться.
Читайте «Литературно» в Telegram и Instagram
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com