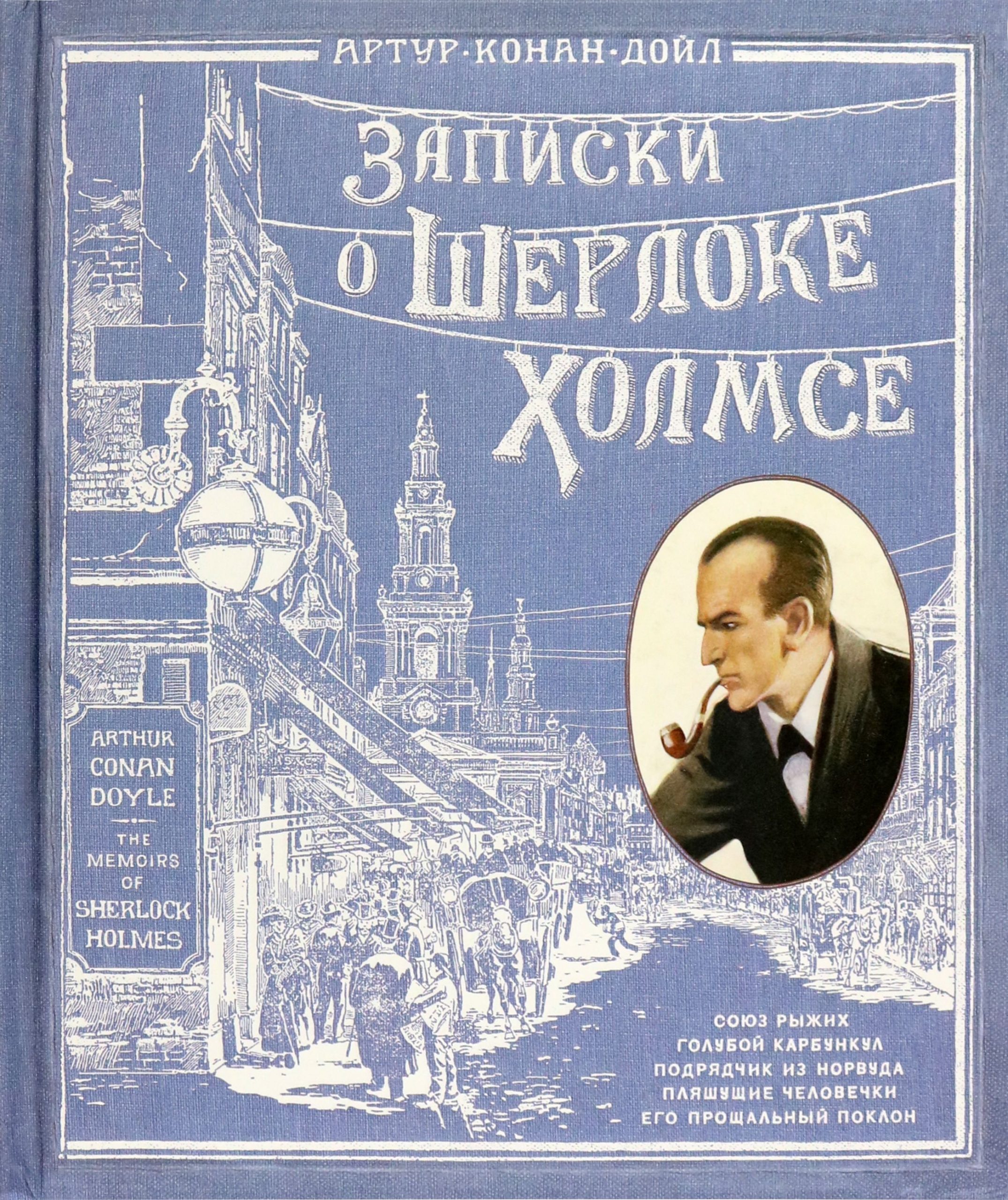В этом году писатель Андрей Бычков выпустил сразу две книги: сборник «ПЦ постмодернизму» и роман «Тот же и другой». О страстях и «святой лжи», опасных нонконформистах и литературных поделках, веганах и феминистках в художественном тексте Андрей Бычков рассказал редактору «Литературно» Ане Колесниковой.
Уже по названию вашей последней книги «ПЦ постомодернизму» можно догадаться, что постмодернизм вам не очень по душе. Усложненность, серьезность, романтизм — все уже вернулось в литературу. Как относитесь к метамодернизму? Вообще, какие из «измов» вам ближе других?
Пруст говорил, что писатель — это, прежде всего, видение, а не стиль. Эра эстетики в каком-то смысле уже позади. Как игра с формой, как тот или иной «изм». Это, конечно, не значит, что можно писать как попало, что главное — это содержание. Мне кажется, что сейчас начинается — в который раз — самое интересное. Постмодернизм закончился на шоке, чему пример творчество Владимира Сорокина. Отличный художник, что говорить. С помощью блестящей имитации, обсценной лирики и коричневатого вещества отходов деятельности человеческого тела он расправился с традицией социалистического реализма и даже копнул глубже. По-своему, более жизненным способом, с помощью остро отточенного серпа, проходящегося по детородным органам другого адепта отечественного постмодернизма, я продемонстрировал еще двадцать лет назад, каким образом надежнее всего закрывается и сам постмодернизм.
С помощью шока прерывается, собственно, любая традиция и тем самым консервируется. Классический пример, наверное, творчество Бодлера, который на фоне христианских установок, господствовавших до него в поэзии, откровенно обращается ко злу. Недаром публикация «Цветов зла» привела к скандалу, Бодлера даже оштрафовали за нарушение нравственных норм. Но искусству, литературе в том числе, многое позволено. Художник всегда искажает действительность в угоду своей субъективности. Ставит себя выше изображаемого, потому что речь всегда и прежде всего о его суверенной свободе. Так проявляет себя осевой путь западного искусства, да и не только искусства, а можно сказать, что и западной метафизики — нигилизм. Обо всем об этом блестяще написано у Агамбена в книге «Человек без содержания». Вопрос в том, что художнику делать сейчас. Делать, наверное, и не совсем правильное слово. Потому что вокруг все только «деланием» и занимаются. И оттого так много мертвых, хотя подчас и гладких, изящных по стилю поделок. Но это все — производство, а искусство — это все же про что-то другое. Искусство не про «измы», а про жизнь. Про то, что мало кто может жить своей настоящей жизнью, а как к ней прорваться, именно к своей, — непонятно. Вокруг одни авторитеты, догмы. Но иногда, мельком, догадываешься, как будто что-то приоткрывается — зачем ты здесь? А потом мы почему-то себя предаем. И опять ложь, всем и самому себе. Оправдывающие ритуалы, литературные и социальные игрища.
«С помощью шока прерывается любая традиция»
У вас помимо прозы — кандидатсткая по физике, гештальт-терапия, киносценаристика, учреждение нонконформистсткой премии «Звездный фаллос». Не хотелось бы написать автофикшн?
Герой моих произведений живет сам по себе. И по отношению к моей биографии, что было лично со мной, его автором, часто испытывает скуку. Не потому, что у меня неинтересная с точки зрения героя жизнь, а скорее потому, что ему, герою, или героям, неинтересно ее повторять, потому что это уже было. А интересно то, чего еще не было. Проза — это прежде всего жизнь со всей ее неизвестностью, случайностью, непредсказуемостью. Автофикшн — заманчивое словечко, но это, скорее, про сочинение себя. А мы с героем себе не принадлежим. Я бы сказал, что это не вопрос воли. А вопрос появления чего-то или кого-то, как оно-он-она-они сами этого захотят. Писателю должно быть страшно, ну или весело от того, что само собой происходит, когда он садится за стол. Я даже подозреваю, что автофикшн — довольно опасная вещь: так можно стать выдающейся личностью, но при этом остаться довольно средним художником, как, например, Лимонов.
Ваше отношение к актуальному роману. Искусство «вне времени, вне политики», или все же писатель может/должен размышлять о современности с ее болевыми точками — экологическими катастрофами, митингами, фем-повесткой и прочим?
Актуальное произведение — что это такое? Сыграть на общественном интересе к событиям, на резонансе? Должна быть какая-то глубоко личная вовлеченность. Писатель не может, конечно, не обращать внимания на творящуюся вокруг в беспределе так называемую современность. И как гражданин и просто как человек он может и должен отзываться о происходящем. Но все же это, скорее, из области публицистики, журналистики. Я, кстати, отношусь с огромным уважением к журналистам, потому что там люди реально рискуют собой и отвечают жизнью за свои слова. Однако у фактов какой-то свой язык, мощнейший, но при этом достаточно скупой. Правда и боль не требуют изобилия в изложении. Вместо особой художественности здесь, скорее, должно оставаться пространство для выводов, для концептов, для социальной теории действия, которая должна переходить к атаке, к сопротивлению. Увы, во всей этой борьбе, в этом захватывающем нас реализме действия все меньше места воображению. Или, точнее сказать, фантазии.
«Автофикшн — довольно опасная вещь»
Документальность обрушивается на нас со всех сторон. Но весь этот интерес к актуальности, к информации, к льющемуся через край нонфикшн — довольно опасная вещь. Искусство никогда с этого не начинает, его кормилица — иллюзия, как сказал Рембо. Факты, события могут быть захвачены в вихрь повествования краской, но с необходимой долей отстранения, если даже и не с иронией, горькой в том числе. Иначе вы рискуете остаться на социальной поверхности и не открыть той глубины, где ставится все тот же извечный вопрос — зачем человек? Недаром Ницше говорил, что искусство есть высшая задача и метафизическая деятельность в этой жизни.
Что такое эта глубина? Если по сюжету романа веган и феминистка идут на антикоррупционный митинг, что еще должно быть в тексте, чтобы вы восприняли его как прозу, а не как публицистику?
Глубина там, где скрыты невидимые силы. Задача художника — их проявить. Они в ощущениях. Надо идти от ощущений, от страстей. Не трансформировать публицистический стиль в художественный, а деформировать эпизод в сторону страсти — страха, ненависти и так далее. Как это парадоксально не прозвучит, вводить в эпизод больше неестественности, вымысла, противоречия, чем в документальном повествовании. У нас, у художников, своя «святая ложь». Чтобы усилить воздействие радикально, можно даже деформировать саму грамматику, как это делал, например, Арто, а не играть с лексикой, как Кэрролл. Подробный разбор смотрите в книге Делеза «Логика смысла». Веган и феминистка в сцене, про которую вы говорите, по-моему, не должны напрямую играть свои роли, они могут быть озабочены или вдохновлены чем-то другим. Или должно быть какое-то другое событие, которое по каким-то причинам для них важнее митинга, например, синее небо. А чем небо не событие? Чистое небо не как метафора к борьбе с коррупцией, а как та самая глубина, которая почему-то нас посещает, как перед смертью.
Кормильцев издавал вас в «Ультра.Культуре», Мамлеев называл ваше творчество уникальным. Почему до сих пор нет какой-нибудь крупной литпремии?
Да ранг писателя и не от премий зависит. Имя — настоящее — идет другими путями. А то, что от литофициоза я ничего кроме замалчивания не получаю, так и пусть. Да, я для них вредная и опасная фигура. Я слишком независимый писатель, слишком для них свободный. Я не их автор. Я белая ворона в их премиальном мире. Но я живу, как могу, и говорю, что хочу. Им, конечно, нужны нонконформисты, но только мертвые или из других времен, других стран. А я живой, под боком у них хожу, «Звездным фаллосом» размахиваю.
А что для вас нонконформизм? Не высказывание по остросоциальным вопросам, не критика в адрес чиновников и силовиков — в чем же вредность и опасность?
У нас вначале разговор как-то вокруг Бодлера выстраивался. Вот и ответ. Бодлер — нонконформист, потому что он враг общепринятости. Да все вокруг высказываются по остросоциальным вопросам и критикуют чиновников и силовиков. Эка заслуга. Идите дальше своих слов, стройте баррикады. Бодлер, кстати, участвовал в революции 48 года и разочаровался. Но он развернул дискурс свободы ко злу. На вертикальной плите его кенотафа сам Сатана. Бодлер поднимается на бунт. Потому что он любит Бога и видит, что Бог не способен изменить к лучшему этот мир. Мы все раздвоены, у нас у всех и Бог, и Сатана в душе, вот о чем говорит Бодлер. Мы часто прячемся за показной нравственностью, за общественными идеалами. Но зло укоренено в нас глубже.
«Художник решает, прежде всего, свои глубоко личные задачи»
Нонконформизм тоже в каком-то смысле укоренен во зле, но его зло каким-то непостижимым образом связано с правдой, той, более глубокой правдой о человеке и его страстях, с правдой разбойника Дисмаса, распятого по правую руку от Христа и спасенного лишь в последний момент. Можно, конечно, и не так радикально к этой теме подойти, можно посмотреть, исходя из другой оптики, и сказать, например, что нонконформист — это человек обособленный. Это должно быть примечательно в нашу эпоху массовых завываний. Когда кругом группы, партии, кланы, кружки, премии опять же. Нонконформист всегда на стороне личности, а не общества. Но он не разрушитель, он даже не анархист, он, скорее, ближе к юнгеровскому анарху, сам по себе.
В этом году у вас вышел роман «Графоман», написаный в 1990-м, и новый роман «Тот же и другой». Что изменилось в вашей прозе за 30 лет?
Я как-то стал больше понимать, что проза — это не только и в основном не про сюжет, персонажей и события. Проза — это, прежде всего, язык и энергия, а остальное должно уже появляться как бы само собой. Именно энергия меняет и автора, и его читателя. Мы же читаем не книгу, а посредством книги, прежде всего, самих себя. Пруст сравнивает роман с оптическим инструментом. Поэтому надо, чтобы проза настраивала сознание читателя, чтобы он разглядел в себе то, что без автора он бы прозевал или вычеркнул из своей внутренней жизни, вытеснил, как говорят психотерапевты. И одна из задач искусства в том, чтобы мы признали, наконец, и свою тень, своего двойника. Искусство, и литература в том числе, как уже становится ясно из нашего разговора, для меня во многом дьявольское занятие. Но в то же время это и борьба со злом, потому что это борьба с самим собой.
«Нонконформист всегда на стороне личности, а не общества»
Ваш идеальный читатель — кто это?
Насчет идеального читателя — не знаю. Но, я думаю, что мой — это, прежде всего, свободный человек. Он читает что хочет, да и делает, наверное, что хочет. И он, конечно, талантлив, хотя, может быть, и не догадывается об этой своей особенности, точнее, не знает, как свои таланты проявить. Пруста, Кафку и Джойса изучать ему, конечно, не обязательно. Но серьезные книги надо читать и любить. Я, конечно, не гений, мне до Кафки и Пруста, как до Марса. Но дело даже не в этом. А в том, близок ли писатель к некоему началу, из чего все рождается. Это и есть дар, большой или маленький — не так важно. И может ли писатель этим началом, этой свободой заразить своего читателя. Может ли он посредством своего письма показать, что, вообще говоря, ты можешь и так, и по-другому. И почему ты, читающий эти строки, в жизни себя ограничиваешь?
«Мой читатель должен отличать живое от неживого»
Я, кстати, не так уж сложно и пишу, как придумывают про меня критики, Джойс писал в миллион раз непонятнее. Я просто больше, чем они, понимаю про хаос и разрывы в сознании, не только потому, что я работал как гештальт-терапевт, но и потому что я больше учился писать у живописи, чем у литературы. Мой отец был художник. Живопись, скажем, после Фрэнсиса Бэкона, это про ансамбль отношений, на которые распадается образ, как говорит Жиль Делез. Вот это самое интересное сегодня и в литературе. А следовательно, и в сознании читателя, которое литература меняет. У литературы те же задачи, что и у других искусств, и часто те же методы. Для меня, например, важен и монтаж, а здесь прямой пример — кино. Или контрапункт, смена ритма, интонации — музыка. Мой читатель должен любить искусство в целом и разбираться в нем, отличать живое от неживого. Ведь читать — это как жить, обживать новую страну. А начинать меня читать, наверное, лучше с рассказов. Например, из книги «Вот мы и встретились», изданной в «Эксмо». Если же бросаться в омут сразу, то выбирайте «Олимп иллюзий».
Вы говорили, что письмо — это практика себя, аффект, что слова ведут сами. Напоминает арт-терапию, в которой результат не важен, главное, что полегчало. Но арт-терапия — не искусство. Как писать в аффекте, чтобы потом написанное тобой мог понять другой человек?
Художник решает, прежде всего, свои, глубоко личные, задачи, проблемы. Аффект подталкивает к письму, дает ему дионисийский импульс, но поверяется все же трезвостью Аполлона, бога формы. И это не совсем арт-терапия. Даже, скорее, некий риск. Прекрасное, как говорил Стендаль, — это обещание счастья. Или — как кому дано: несчастья, спасения, проклятия. Бодлер, опять же, говорил, что художник в своей деятельности выходит, как на дуэль, где испускает вопль ужаса перед тем, как упасть побежденным. Искусство довольно опасная вещь. Эта опасность связана с концентрацией, которой от тебя требует произведение, когда ты вдруг осознаешь, что не оно тебе принадлежит, а все ровно наоборот. А вот выдержишь ли ты, способен ли позволить взять ему из тебя то, что оно хочет, — вот что имел ввиду Бодлер. И именно это и есть труднейшая, мучительнейшая работа художника, работа Аполлона с появляющейся неизвестно как, но формой, на ней уже все мучения, она открывает доступ во вне, к читателю, зрителю, слушателю, каким в этот момент являешься и сам. Надо, конечно, многому поучиться у старых мастеров, чтобы тебя поняли другие.
Традиционный вопрос: что в планах?
В планах нет планов, а лишь попытки. Я с предрассудками, боюсь, как бы не сглазить.
Читайте «Литературно» в Telegram и Instagram
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com