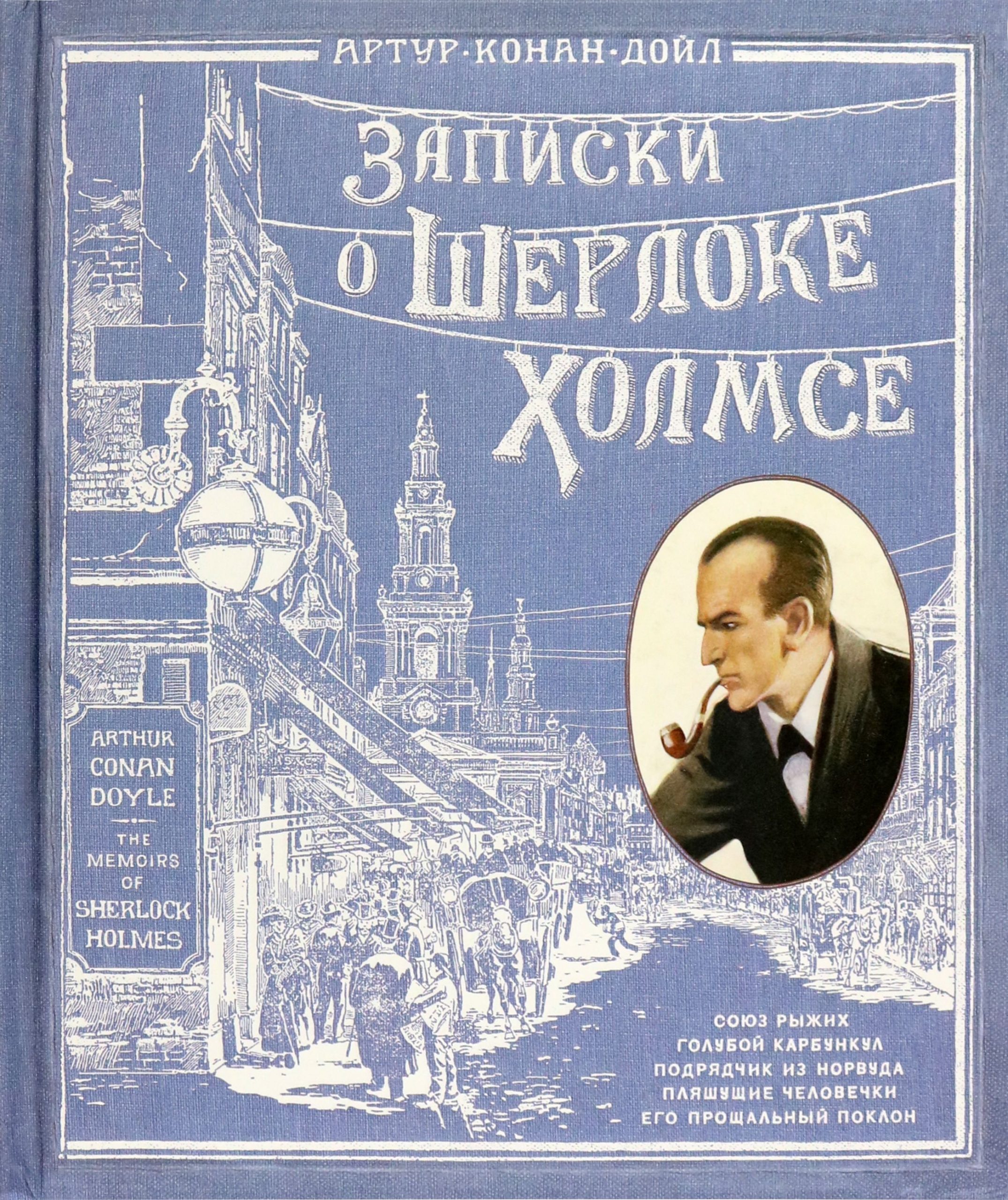Недавно мы рассказывали о романе «Грустная песня про Ванчукова» — вольной энциклопедии советской жизни от врача и писателя Михаила Зуева. Теперь обозреватель «Литературно» Никита Немцев поговорил с автором «Грустной песни» о том, как врачебный опыт помогает создавать книги, как работать в пограничном состоянии, куда уходит постмодерн и что есть русскость.
Врачебная практика вам дает что-то как писателю?
Врачебная профессия требует и цинизма, и умения признавать ошибки, и сострадания к родственникам больных — чтобы на них смотреть не как на скотину, а как на живых людей. Все это, конечно, оставляет след. Впрочем, деление на профессии достаточно условно: ведь люди меняют профессии. Я и бизнесом занимался, и поднимал только начинающийся русский интернет. Последняя запись в трудовой — генеральный продюсер компании, которая через полгода стала называться Mail.ru. Сейчас вернулся в медицину — жизнь заставила. Где-то двенадцать-тринадцать лет назад получил инсулинозависимый диабет, пришлось заниматься этой проблемой — заодно разобрался в ней и книжку написал. Если брать выпускника литинститута, профессионального писателя — у него чаще всего нет жизненного опыта. У медика жизненного опыта, к сожалению, выше крыши. Благодаря этому и выдумывать ничего не надо — героев, сюжеты. В тебе живет все, что видел сам или слышал от коллег. Я скорее испытываю необходимость отбора.
А ваш опыт влияет на стиль письма?
Слава богу, у меня нет литературного образования, и писать меня не учили. Для себя я выбрал один ремесленный прием, который повсеместно встречается у Рэя Брэдбери. Это повествование, идущее от обратного: когда ничего особого на странице не происходит, можно использовать витиеватую лексику и красивости, но чем больше накаляется ситуация, тем более аскетичной должна становиться речь автора, в самых жестких моментах превращаясь в односложные предложения. Это позволяет подготовить читателя к тому, что скоро произойдет, да и вообще такой лаконизм мне по душе.
История знает немало писателей-врачей: Рабле, Чехов, Булгаков и так далее. Кто вам близок?
Михаил Афанасьевич мне ближе всего. Булгаков — человек, безусловно, гениальный, трагический, тексты его бессмертны, его будут изучать, будут пытаться писать как он, хотя это невозможно, для этого надо быть Булгаковым, а если ты когда-нибудь утром проснешься в шкуре Булгакова, то тебе будет страшно. Можно часами говорить, как я читал «Мастера и Маргариту» в репринтной копии посевовского издания и от некоторых фраз плакал — потому что так невероятно писать нельзя. Но я счастлив, что могу называться коллегой Михаила Афанасьевича хотя бы по формальным признакам.  Вам больше по душе короткая форма или большой роман?
Вам больше по душе короткая форма или большой роман?
Дело в том, что короткая форма — это довольно больно. Ты должен быть настолько эмоционально напряжен, что, когда заканчиваешь рассказ-новеллу, сидишь совершенно вымотанный, тебя мучает тахикардия, пятна перед глазами летают. В работе над длинной формой ты в гораздо большей степени ремесленник, ты расслаблен и смотришь широко: вот тут нажмешь на читателя, тут погладишь его по остаткам эго. Бывает, я сажусь за стол и случается затык. В таком случае я просто заваливаюсь на кушетку, закрываю глаза и стараюсь заснуть — только это не совсем сон, это состояние пограничное, в котором герои начинают выяснять отношения. Когда я пробуждаюсь, то уже знаю, что писать.
Вы как-то представляете своего читателя?
На самом деле нет. Смотришь выступление «Машины времени» на пятидесятилетии группы — и кто в зале? Вроде должны сидеть такие старперы, как я, а на самом деле там молодые ребята 35-40 лет, плюс дети пятнадцатилетние. Не угадаешь, кто придет тебя слушать. И вряд ли Стругацкие или Булгаков могли угадать, что я их буду читать. А я читаю. Совсем недавно для себя открыл — извините — Достоевского. Когда учился в школе, не читал. И отца русского сериала Толстого тоже — меня тошнило от обоих. А потом, когда стал сильно старше погибшего Пушкина, вернулся к ним и оценил. Недавно же прочел всего Юрия Трифонова, теперь читаю его регулярно. У него есть несколько вещей, которые с виду простые-простые, в них ничего не происходит, герои смазанные, а ты в это пространство заходишь, и тебе из него уже не выйти. А потом закрываешь книгу и думаешь: почему я сидел как кролик перед удавом? В чем тут очарование, в чем прелесть? Проходит полгода, и ты опять проваливаешься в эту кроличью нору.
А за современной литературой следите?
Не очень слежу, но что-то читал. Допустим, «Ненастье» Иванова. Поворотов сюжета уже не помню, но как только слышу — Иванов, «Ненастье» — у меня сразу возникает послевкусие, а это значит, что автор будет жить долго и переживет сам себя. Дальше — Евгений Прилепин (хочет называть себя Захаром — пожалуйста). Особенно пронзительны его последние вещи, касающиеся Донбасса. Хотя сейчас он ушел в политику, я надеюсь, что у него и дальше будут происходить такие озарения. Через песню из фильма «Страна ОЗ» я открыл для себя Михаила Елизарова. Сначала как исполнителя и автора прекрасных песен, потом стал читать его прозу — и чем больше читал, тем больше офигевал, потому что он, конечно, виртуоз. Я когда читаю такое, мне становится тихо и хорошо. Последний его роман «Земля» был объемен и очень неплох, но для меня самая мощная вещь — «Мультики». Человека явно боженька поцеловал. Ну и плюс еще, конечно, Вересов — его «Черный ворон». Я читал, читал, пытался понять, где, наконец, лажа пойдет, а она все не шла и не шла — так весь цикл и прочел.
«Когда заканчиваешь рассказ-новеллу, сидишь совершенно вымотанный, тебя мучает тахикардия, пятна перед глазами летают»
Как я понимаю, современная русская литература просыпается и становится более человечной, а вкус дерьма от постмодерна заменяют какие-то другие вкусы. В девяностые, конечно, без постмодерна прожить было нельзя. Помните пелевинский диалог: «Вы берете меня творцом? — Нет, криэйтором, творцы нам на х… не нужны». Он сейчас ребятами лет двадцати может восприниматься со смешком: вот взрослый дядя написал на бумаге слово из трех букв. Но ребята не понимают, что тогда это было не смешно, а страшно. Сейчас воспринимается как гротеск, а это вообще не гротеск. Просто Пелевин — умный человек, и он грустит.
А к Пелевину вы как относитесь?
Я читал у него практически все, он блестящий автор с хорошим слогом, но ему нечем меня удивить. Я жил в то же время, и мой жизненный опыт, наверное, побогаче его жизненного опыта. То же касается и всей постмодерновой когорты — им нечем меня удивить. Я в девяностые проехал весь бывший Советский Союз, нет ни одного города с аэропортом, где бы я не бывал: семьдесят-девяносто перелетов в год. Удивить постмодернисты могут только человека, который просидел всю свою жизнь на офисном стуле, и думает: да, старик глубоко копает. А сам я уже накопался.
То есть в литературе для вас первична именно передача жизненного опыта?
Думаю, да. Я не могу конкурировать с авторами, которые выдумывают сюжеты и помещают туда искусственных героев, как бы хорошо они ни были слеплены. Это экзерсисы, мне неинтересно. В тексте хочется выразить отношение к определенным вопросам — на одни из них у меня есть личные ответы, а на другие ответов в принципе нет. Может, у читателей появятся.
«Грустная песня про Ванчукова» родилась из этого невысказанного опыта?
В один из не очень хороших дней я начал вспоминать ушедших товарищей. И подумал, что они могли бы стать героями моего эпоса, потому что писать о живых — на мой взгляд, не совсем удобно, а эти люди уже ушли, они не могут рассказать о себе. И начинают возникать выдумки, которые перемешиваются с реальностью, и так складывается большой текст, работающий как капкан для того, кто его пишет. Четыре месяца по три-четыре страницы в день без потери качества.
«Писать о живых — не совсем удобно»
Мне хотелось разобраться с тем, что творилось с нашим поколением, куда мы пришли, что нами двигало. И вообще, что бы могло быть, если… Сюжет развивался как улитка: сперва я совершенно не знал, чем все кончится, но герои ожили, пошли своим путем и другой возможности финала мне не дали.
Хотелось ухватить дух времени?
Да, наверное, тот самый цайтгайст — взять его просто неоткуда, кроме как из себя. Главный герой синтезирован из пяти-шести человек, многих я знал, кого-то любил, кого-то нет. Там хватает автобиографического, но не сюжетно, а в том, как меняется состояние главного героя за тридцать лет жизни. Есть вещи вымышленные, но не для того, чтобы склеить черепки сюжета, а чтобы поднять сюжет над суетой, чтобы не было какой-то смешной хронологии — это не воспоминания, не мемуары, не размышлизмы. И чем дальше я продвигался, тем большую логику все обретало, а последние 150 страниц книга уже сама себя писала, почти без моей помощи.
В романе детально воссоздан быт и язык эпохи. Сколько здесь личной памяти, а сколько исследовательской работы?
Большей частью — личная память: это то, что относится к семидесятым, восьмидесятым, девяностых годам. Если говорить про более ранние десятилетия — многое слышал от родителей и их друзей. Я, конечно, не архивариус, но если уж ты берешься за разговор об определенном времени, то не надо сажать развесистую клюкву. Если нужна песня, посмотри, когда она была создана, может это случилось позже. Или герой идет по такой-то улице – надо посмотреть, возможно, она тогда по-другому называлась. То же касается названия станций метро и так далее.
В одном из интервью вы говорили, что в романе через индивидуальную европейскость хотели выйти на русскость. А что для вас русскость?
Ну, русские люди с европейской точки зрения, мягко говоря, идиоты. Русский всегда думает о судьбах мира, в то время как германский бюргер думает о судьбе булочной или своей мясной лавки. А русских всегда интересовали эти дурацкие вопросы: «кто виноват?», «что делать?» Все наши несчастные декабристы, социал-демократы… Я впервые об этом подумал, когда лет в пятнадцать посмотрел фильм Тарковского «Зеркало» — там есть сцена, в которой сын главного героя Игнат оказывается в полупустой квартире, где сидит женщина и говорит ему: у нас мало времени, открой книгу и читай. И Игнат, сбиваясь, читает письмо Пушкина Чаадаеву. Для меня это было откровение, я тогда не понимал, насколько Пушкин велик, а ведь он в этом тексте смотрел в самый корень — в самый центр русскости. Россия — это территория, но речь идет не о местности, не о шомполах, не об императорах, не о повешении на Дворцовой. Россия — это территория, населенная людьми, которые остановили монгольское нашествие и сохранили Европу живой. Теперь Европа может, конечно, говорить всякие разные вещи, например, что мы — страна-бензоколонка, да и черт с ней.
Герои моего романа любят многие западные вещи, но под конец почему-то начинают думать о судьбах мира, которые для них выражаются в том, что следует вернуться на ту работу, которую любишь, и спасать людей, а не считать большие деньги. Начиная с мечты о европейской разобщенности, герой в итоге все равно приходит к тому, о чем пишет Пушкин. И я счастлив, что ему удалось к этому прийти. Потому что если в нашем социуме не будет таких людей, мы просто рассыплемся, нас не станет.
Читайте «Литературно» в Telegram и Instagram
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com