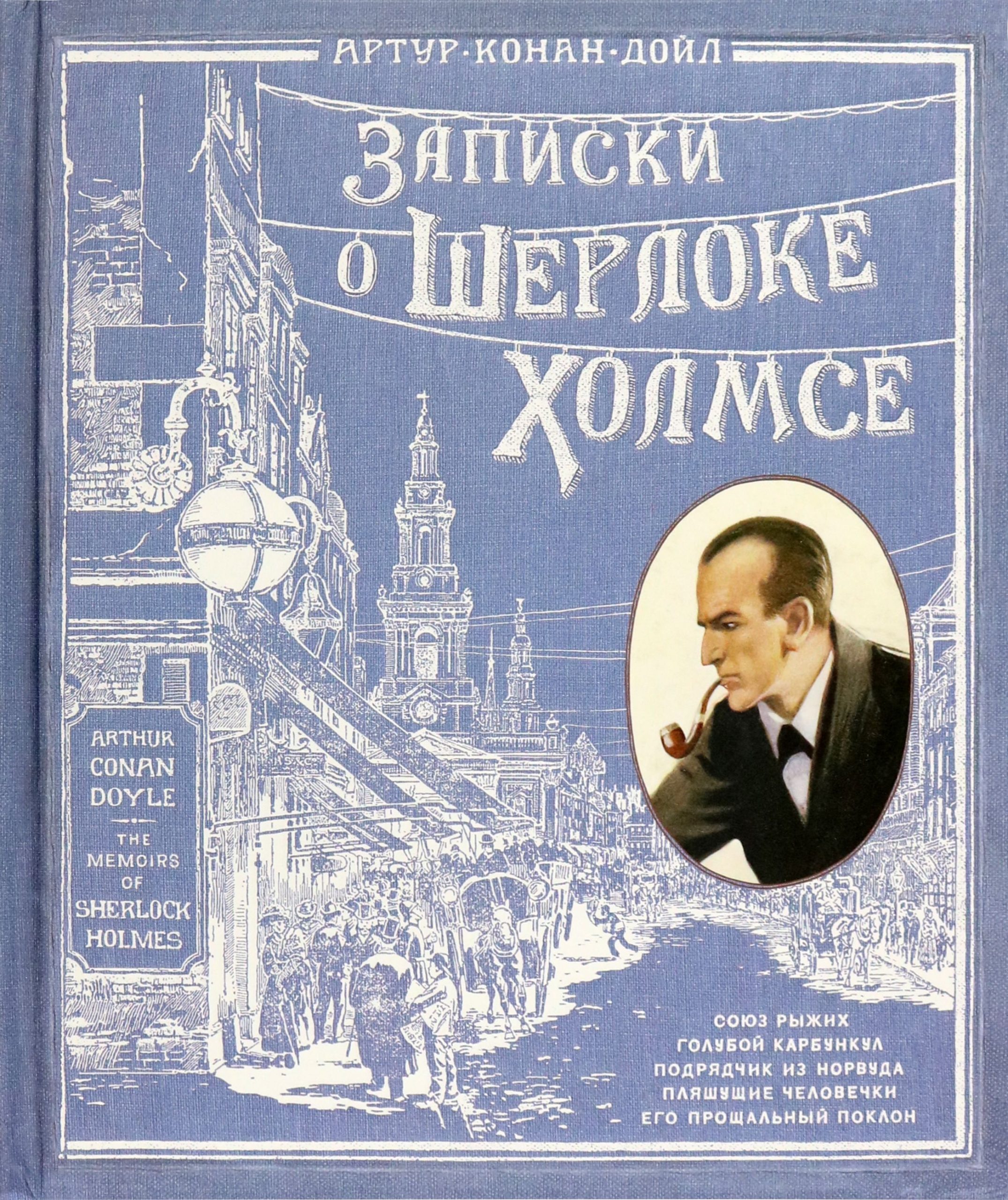В Международный день демократии известный правозащитник и социальный философ Андрей Юров рассказал редактору «Литературно» Арине Буковской о том, какие книги прививают любовь к свободе, почему из писателей он ушел в правозащитники и по каким причинам ему не хочется читать актуальную прозу и смотреть фильм «Левиафан». А также о трофейном «Ундервуде», пророческой фантастике и о том, чем пластиковый мусор похож на ядерное оружие.
Вы окончили физфак, потом факультет психологии, в юности писали прозу и стихи. Из физиков и лириков — в правозащитники. Как это произошло?
Всерьез писать я начал еще в школе, лет в 16, продолжил в университете — стихи, прозу, эссе. В какой-то момент даже стало выходить не очень плохо. Это было в конце восьмидесятых, вовсю шла перестройка. В Москве и Петербурге она уже замечалась, но в моем провинциальном Воронеже — ни в Союзе писателей, ни где-либо еще — никакой перестройки, конечно, не было. Публиковаться могли только те, кто правильно понимал политику партии. А я писал в стиле, очень далеком от соцреализма, поэтому, естественно, связался с андеграундными полудиссидентскими литераторами и прямиком угодил в круги самиздата, где перепечатывали Мандельштама, Пастернака, Солженицына и Бродского.
Свою причастность к правозащитному движению я отсчитываю от 1988 года — с момента вступления в организацию с очень скромным названием «Профсоюз литераторов и журналистов». Запрещенной она не была, но в Советском Союзе ведь как: если не разрешено — запрещено. В первых же пунктах устава говорилось, что профсоюз свою работу строит на принципах Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также на статьях Конституции СССР, не противоречащих этим международным документам. Для того времени — очень смелая формулировка. То есть наш профсоюз не только помогал издаваться, но и провозглашал важность свободы слова, совести, собраний. И в этом смысле организация была абсолютно правозащитной.
У вас были неприятности в связи с ней?
Один только устав ее мог доставить много неприятностей, но к счастью, тренд уже переменился. Власти этого еще не понимали, поэтому у нас было много смешных приключений: мы проводили какие-то полуподпольные съезды, за нами следили какие-то люди в штатском, от которых приходилось убегать. Для нас это был драйв, дул ветер свободы, мы ощущали его кожей: все движется к свободе, поэтому не страшно. Завтра станет свободней, послезавтра — еще свободней, и даже если нас сейчас прищучат, через год все изменится. Сегодня такие приключения мне не показались бы забавными. Тренд обратный. Правда, когда я об этом говорю, мне отвечают, что я старый токсичный урод, что на самом деле все не так плохо. Но у меня уже почти двадцать лет ощущение, что я живу в тренде, противоположном свободе. И это, конечно, заставляет грустить. Возможно, именно поэтому кроме обострения стандартной клинической биполярки, у меня в последние годы добавилось еще несколько психических расстройств…
«Дул ветер свободы, мы ощущали его кожей: все движется к свободе, поэтому не страшно. Завтра станет свободней, послезавтра — еще свободней, и даже если нас сейчас прищучат, через год все изменится. Сегодня такие приключения мне не показались бы забавными. Тренд обратный»
А в то время я на дедушкином трофейном «Ундервуде» радостно перепечатывал запрещенку: четыре копии нормально, пятая — совсем бледная. В 1988-м пытался распространять в универе «Всеобщую декларацию прав человека», были неприятности, но уже не очень серьезные. Если бы учился на юрфаке или истфаке, скорее всего, выгнали бы, а на физфаке было посвободнее. С литературой тоже все было уже не так плохо: сначала проводились квартирники, потом нам разрешили собираться в библиотеках, читать там стихи, только не о политике. Возникали какие-то кооперативы, где издавали маленькие книжки. Каждые полгода мир так сильно менялся, что начало и конец 1988-го — два разных времени с точки зрения свободы.
Почему двигать идеи свободы вы в итоге стали не как литератор, а посредством правозащитной деятельности?
Сложный вопрос. Я ведь не только литературе предпочел правозащитную работу, я и физикой не стал заниматься, хотя очень любил физику. Этот переход от двух главных моих привязанностей, литературы и физики, к правам человека для меня был связан с осознанием того, что в несвободной стране нельзя нормально заниматься ни литературой, ни наукой. Либо ты в подполье и в сопротивлении, либо прогибаешься. Для меня стало важнейшей идеей: мы должны жить в свободной стране. Я прекрасно понимал, что формальное крушение Советского Союза не значит, что страна стала свободной.
В девяностых годах в Воронежской области и других городах центральной России происходило много страшных вещей. Были очень сильны фашистские движения самого разного типа, в 1993-м я участвовал в формировании Антифашистского движения юга России. Многим москвичам это непонятно, они мне говорят, что такого не было. У вас не было, а у нас было. Это тот самый красно-коричневый пояс России, о котором почти ничего не известно, потому что те, кто мог сбежать — сбежали за рубеж или в крупные в города, а кто не сбежал — ничего рассказать уже не может.
«Переход от двух главных моих привязанностей, литературы и физики, к правам человека для меня был связан с осознанием того, что в несвободной стране нельзя нормально заниматься ни литературой, ни наукой. Либо ты в подполье и в сопротивлении, либо прогибаешься»
В 1991 году открылись границы, и половина моих друзей просто сразу уехала. До этого существовало большое сообщество, которое занималось книгоизданием, выпуском журналов, и, вполне возможно, сложилось бы в какой-то серьезный гуманитарный кластер, но в сентябре 1991-го три четверти моих самых близких знакомых просто взяли и уехали. Кто в Израиль, кто в Штаты, кто куда. Никого не осталось. Весной были, а осенью исчезли. И это тоже важный момент, когда я осознал: я остаюсь и буду заниматься не физикой и не литературой.
Какие тексты повлияли на формирование жизненной позиции?
В свое время для меня большим открытием стал «Один день из жизни Ивана Денисовича», мне его в «Роман-газете» подсунул отец, когда я учился в старших классах. Отец был членом партии, но либералом, должен был уничтожить этот текст, но не уничтожил и даже дал прочесть, только попросил не рассказывать про Солженицына в школе. А вот что еще забавно: мои взгляды на справедливость сформировались под влиянием очень одобряемой в СССР приключенческо-романтической классики. Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рид — вся эта героика, о которой пел Высоцкий: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Ну и, конечно, Станислав Лем, братья Стругацкие, Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут…
Отдельно хочу отметить «Легенду о Тиле Уленшпигеле» Шарля Де Костера. Сейчас это почти никому не известная книга, а для меня она была настольной, до сих пор считаю этот роман глубоко недооцененным многослойным текстом. Абсолютно правозащитный текст. Все начинается с того, что голландцы пытаются бороться за свободу исповедовать ту веру, какую хотят, за что их жгут на кострах. Классический правозащитный дискурс: свобода совести отдельных социальных групп и сопротивление государственному произволу.
«Мои взгляды на справедливость сформировались под влиянием очень одобряемой в СССР приключенческо-романтической классики. Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рид — вся эта героика»
Еще, помню, в юности мне кто-то из коллег-писателей дал почитать изданную во время оттепели книгу «Кто, если не ты?» Юрия Герта — про старшеклассников, которые при сталинском режиме пытались создать в школе организацию по борьбе за справедливость во всем мире, и что с ними сделали. На меня этот роман произвел сильнейшее впечатление. А в девяностые годы лавиной хлынула переводная литература, копившаяся десятилетиями. Издалась вся русская эмиграция, в том числе философы. Мне тогда всех ближе был Бердяев с его пафосом свободы.
Кого из современных писателей считаете самыми большими гуманистами?
Назову четырех авторов: Жозе Сарамаго, Умберто Эко, Салман Рушди и Орхан Памук. Многие их тексты для меня знаковые. Из этих четверых, на мой взгляд, самый правозащитный — Сарамаго. Особенно в таких страшных текстах, как «Слепота» и «Прозрение» — они вчистую про тоталитаризм и возможности сопротивления. У Умберто Эко люблю и романистику, и эссеистику. У Салмана Рушди для меня самый сильный антитоталитарный, антивоенный пафос в романе «Дети полуночи». Последним из этих четырех я читал Памука. Понятно, что сейчас я читаю не так много художественной прозы, как в юности, но всякий раз, когда беру книгу кого-то из них — мне сразу становится очень интересно.
Сегодня я читаю, в основном, лонгриды. Они довольно драматичные, отнимают много сил. За последние полгода самое мощное впечатление на меня произвел текст Шуры Буртина «Заводной мандарин» — о том, что происходит в Уйгурском автономном округе Китая. Этот лонгрид очень важен для разговора о цифровом концлагере. О том, что всех нас может ждать. Всего-то пара десятков страниц, но я читал в четыре присеста — тяжелейший текст. В основном, просто интервью и немножко вставок-рассуждений. Я считаю, что этот лонгрид должен прочесть любой образованный человек на постсоветском пространстве. Да вообще любой, кто хочет понимать, что происходит в Евразии и может происходить повсеместно, если ничего не предпринять.
А из современных русскоязычных прозаиков кто близок?
Когда-то я безумно любил Пелевина. Для меня настоящим откровением стал его роман «Чапаев и Пустота». Сегодня есть авторы, к которым я отношусь с уважением — к Дмитрию Быкову, Владимиру Сорокину, Людмиле Улицкой. Многие их тексты мне кажутся хорошими, интересными, важными. Но не могу сказать, что это как с Рушди или Памуком, книги которых я беру — и все, я там целиком. Так что с современной русскоязычной прозой у меня, можно сказать, проблемы: нет такого писателя, за творчеством которого хотелось бы следить. Мне дают какие-то романы, я читаю, говорю: спасибо, это хорошо. И тут же забываю.
Может, это связано с тем, что я ежедневно перерабатываю огромный объем информации — сообщения, письма, лонгриды. Такое количество информации, как сейчас, я не перерабатывал в детстве и юности, даже читая толстенные тома. Мозг просто не справляется, и все, что не очень важно для жизни, сразу забывается. Я имею в виду не приватную жизнь, а те проблемы, которые если не начать решать — человечеству конец. Всем рекомендую книгу Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества». Просто чтобы понимать, кто мы такие, какие вызовы перед нами стоят. Притом, что со многими выводами Харари я не согласен. Но то, какие темы он поднимает, безумно важно. И это тоже должны читать все.
А современная русскоязычная проза — не то, что должны прочесть все, на мой взгляд. Мне с конца девяностых ближе всего фантастика: «Пандем» Марины и Сергея Дяченко о самозарождении искусственного интеллекта, двухтомник Олди «Нам здесь жить» про Большую игрушечную войну в Украине. В этих книгах очень много страшного и пророческого. Может быть, сейчас мне фантастика интереснее, чем реалистическая проза, потому что фантастика предсказывает.
А актуальность нужна литературе?
Мне трудно об этом судить. Эссеистика, по-моему, должна быть актуальной. А вот что касается прозы. Лично я в актуальной прозе не нуждаюсь. Возможно, я вообще не должен говорить об этом: мой взгляд сильно затуманен депрессией, тревожным расстройством и тому подобным, но… Ко мне как к правозащитнику каждый день приходят люди со своими проблемами. С раннего утра до поздней ночи мне присылают сообщения: Андрей, нас давят, Андрей, опять насилие, Андрей, сажают, увольняют, разгоняют. Моя жизнь состоит из кошмара. Зачем мне об этом романы? Если я включаю телевизор, я хочу смотреть фантастику или костюмированный фильм. Я не хочу смотреть «Левиафан», потому что я живу в Левиафане. То же самое с прозой.
Но по мне судить нельзя, я все-таки отношусь даже не к одному проценту, а к одной десятой процента людей — постоянных сотрудников правозащитных, экологических и гражданских организаций. Нас несколько тысяч на 140 миллионов. Я совершенно не репрезентативен. Я не представляю интеллигенцию, научное или литературное сообщество. Я — человек, который непрерывно работает с современной чернухой. Только с ней. Иногда бывают победы. Но редко.
«С раннего утра до поздней ночи мне присылают сообщения: Андрей, нас давят, Андрей, опять насилие, Андрей, сажают, увольняют, разгоняют. Моя жизнь состоит из кошмара. Зачем мне об этом романы? Если я включаю телевизор, я хочу смотреть фантастику или костюмированный фильм. Я не хочу смотреть “Левиафан”, потому что я живу в Левиафане»
Вот я сижу в Воронеже в нашем офисе и прекрасно понимаю, что этот офис — гетто. Что если я сейчас кому-то в очереди в магазине скажу: «Вы знаете, что в Украине до сих пор война, там погибают люди», — на меня посмотрят как на сумасшедшего. Классический пример. Есть такой интересный формат — баркемп — неформальная конференция, участники которой в свободной форме обсуждают важные вопросы. Это собрание журналистов, блогеров, интеллектуалов, гражданских активистов. Так вот в Кирове год назад один кандидат наук, доцент выступал на баркепме с докладом по серьезной теме, связанной с уязвимыми группами — наркозависимыми. А потом мы сидим в баре, и кандидат наук говорит: «Невиновных не сажают». И дальнейший разговор наш становится невозможным. Мы с разных планет. На его планете невиновных не сажают. А на моей планете невиновные сидят постоянно. Я — марсианин. А вы у меня спрашиваете, что нужно читать землянам.
Чтобы разные планеты как-то объединились в одну галактику — о каких вещах сегодня нужно говорить и писать?
О том, что все сложно. Я считаю, что одна из самых главных угроз гуманизму — фундаментализм, при котором за истину выдается что-то крайне упрощенное. Мне очень не хватает книг про то, что все безумно сложно. Невероятно сложно. Давайте забудем о том, что есть простые ответы. Точнее они есть, но на очень простые вопросы. Что я буду на обед: щи или борщ? Что бы я ни выбрал, наверное, ничего страшного не случится. На более сложные вопросы таких ответов нет.
«А потом мы сидим в баре, и кандидат наук говорит: “Невиновных не сажают”. И дальнейший разговор наш становится невозможным. Мы с разных планет. На его планете невиновных не сажают. А на моей планете невиновные сидят постоянно»
Сегодня на слуху должна быть такая мысль: мы живем в глобальном мире, где все со всем связано. В 1989 году мы дома мыли пластиковые пакеты, потому что они были редкостью. Сейчас сложно найти полянку в лесу, где не было бы пластиковых пакетов. Нет ни одного водоема без микрочастиц пластика. За тридцать лет мы уничтожили планету почти полностью. Уничтожили ровно половину видов на этой планете. Мы умудрились. Мы невероятно успешны в этом смысле.
Перед человечеством сейчас стоят задачи в трех сферах. Первое. В сфере человеческого, социального мы, люди, должны разобраться с собой, неравенством, несправедливостью, с прекращением войн, с правами человека. То, что 3% населения владеют 97% актива этой планеты, вряд ли хорошо влияет на планету. Если бы хорошо влияло, не были бы такими грязными наши океаны. Эти 3% явно не способны распорядиться активами во благо всего человечества. Если были бы способны, я бы может и молчал. Но я вижу, что это не так.
«Я считаю, что одна из самых главных угроз гуманизму — фундаментализм, при котором за истину выдается что-то крайне упрощенное. Мне очень не хватает книг про то, что все безумно сложно. Невероятно сложно. Давайте забудем о том, что есть простые ответы»
Вторая сфера — природная. Нужно попытаться восстановить планету. Даже если прямо сегодня мы откажемся от пластика и перепроизводства, Земля будет продолжать загрязняться. Потому что мы уже произвели невероятное количество мусора. Он как атомные заряды, которых столько, чтобы 100 раз уничтожить все живое. Из-за перепотребления мы выбрасываем невообразимое количество еды. Мы должны не просто остановиться, но многое восстановить.
Третья сфера — искусственное, промышленное. Что делать с тем, что мы понапроизвели? От неудобных городов до искусственного интеллекта. Для меня сейчас очень важна кампания, в которую я ввязался — по запрету боевых роботов. Они ведь уже есть, просто не используются. Но это тема для отдельного интервью.
Что со всем этим делать, на ваш взгляд?
Мы сейчас в таком положении, что должны решать проблемы в трех сферах одновременно, так как ни одна из них не является автономной. А это требует огромных усилий. Есть герои, которые прекращают потреблять пластик, но миллиарды тонн все равно выбрасываются. Позиция личной этики хороша и необходима, но плохо работает в глобальном масштабе. Так мы ничего не успеем спасти. Чтобы миллиарды людей прекратили потреблять пластик, нужно многое изменить, к примеру, в производстве. Люди ведь используют пластик не оттого, что они злые. Просто все устроено так, что человек вынужден его использовать. Чтобы его не потреблять, я должен бросить работать и думать только о том, как исключить пластик из жизни. Я очень уважаю школьников из Северной Европы, которые выходят на митинги по поводу климата. Но их мало, одни они ничего не изменят. Многие считают, что все решится само собой: есть же активисты, умные политики, корпорации, кто-то что-то придумает. Но нет. Только мобилизация огромного количества людей поможет разрешить глобальные, очень серьезные проблемы. Вот об этом, конечно, надо как можно больше думать, говорить и писать книги.
__
Андрей Юров — правозащитник, социальный философ, литератор, соавтор концепции гуманитарного антифашизма/Human Integrity. Постоянный эксперт Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт Совета Европы, участник различных международных сообществ и коалиций по защите прав человека в регионе ОБСЕ, организатор и участник правозащитных миссий в Беларуси, Кыргызстане, Чечне, Грузии и Крыму. Автор и ведущий образовательных программ по правам человека, научный руководитель Международной школы прав человека и гражданских действий.
Будем литературны в Telegram, Instagram и Twitter
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com