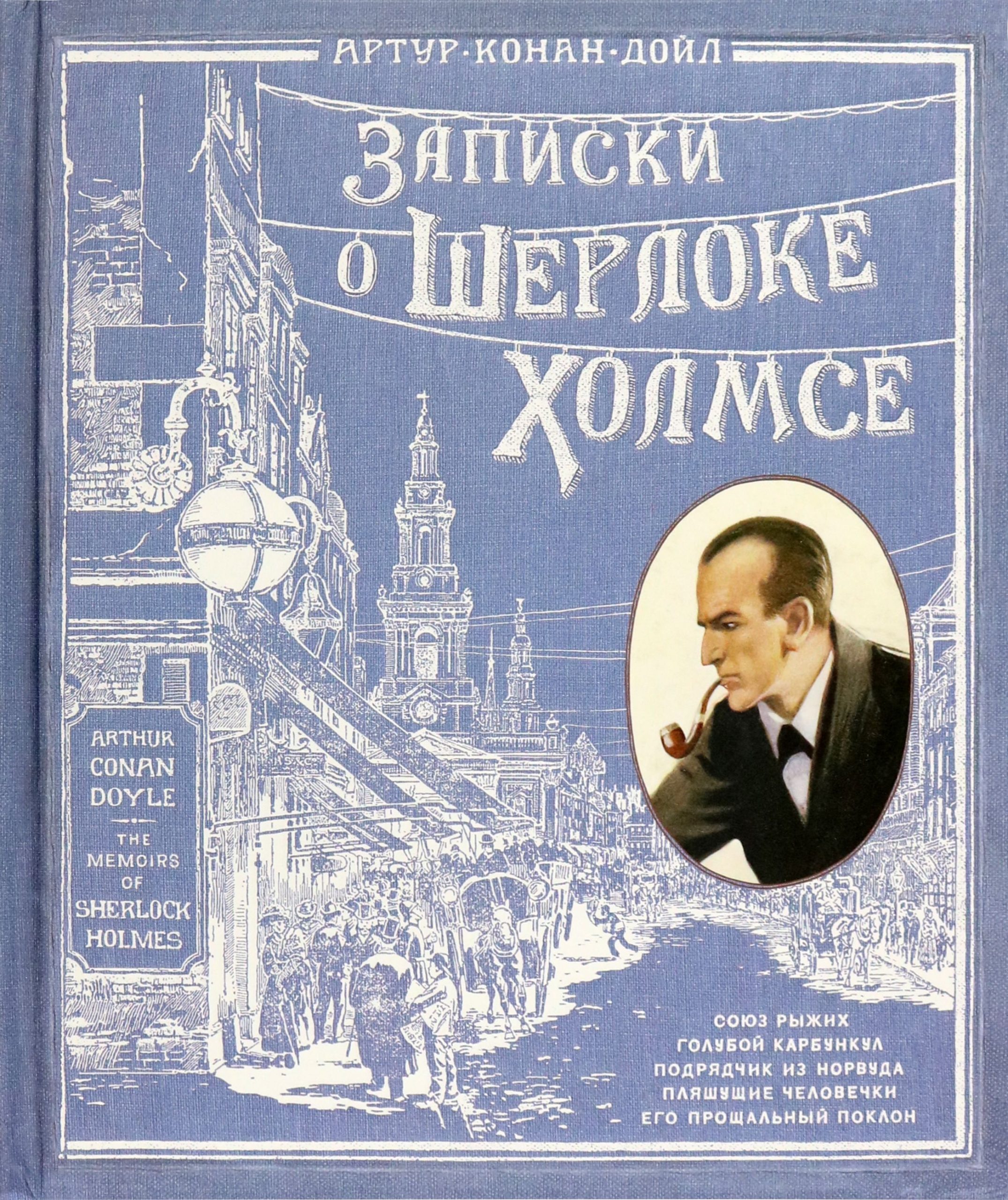Недавно писатель Андрей Бычков — лауреат премии «Нонконформизм» и учредитель оппозиционной премии «Звездный фаллос», которая выдавалась за «принципиально беспринципное наслаждение творчеством» — выпустил новый роман «Переспать с идиотом». О работе над этим текстом и письме как духовной практике Андрей Бычков рассказал редактору «Литературно» Арине Буковской. А также о том, как приводить себя в состояние вдохновения, куда движется мейнстримовая литература и при чем здесь Навальный.
Как возникла идея романа «Переспать с идиотом»? С чего все началось?
Был некий образ женщины, которую я увидел впервые, как описано в романе. Она сидела в зрительном зале после завершения спектакля, и в этом была некая особенность, обособленность, некое избранничество. Я человек влюбчивый, поэтому во мне это отложилось и перешло в текст. Как и то, что я об этой женщине постепенно узнавал, все мои страсти, вся месть, потому что в итоге она предпочла не меня. То есть все началось с подлинной жизни, о которой не принято рассказывать, но которую можно приоткрыть в художественном произведении. Я всегда за то, чтобы что-то живое двигало текст. Иногда ты в жизни чего-то не получаешь, а иногда, наоборот, выигрываешь, но почему-то потом на письме хочется испытать другой путь. Это непонятная игра, во многом непредсказуемая и спонтанная, поэтому я никогда не придерживаюсь в прозе определенного плана. Важно, чтобы что-то меня взволновало.
Текст сам вас вел?
Для меня каждый раз важно отстоять некую подлинность, свежесть первого мазка. Я пишу скорее не романы, а стихотворения. Когда какой-то пассаж написан, его можно бы доработать, развить с точки зрения известных техник, но этого не хочется делать. Не хочется играть по правилам, использовать готовые рецепты. Для писателя рассказать историю — далеко не самое главное. Здесь по большому счету речь идет о свободе. Свободен ли я как автор? Куда меня заведет текст? Не боюсь ли я за ним следовать? Я могу заблудиться, могу зайти в тупик. Умом понимаю, что надо бы вести повествование направо, но что-то меня подталкивает следовать вслед за текстом налево, я чувствую, что выигрышный ход там, на левой стороне, что там кайф, хотя и догадываюсь, что дальше по этой территории продвинуться будет сложно. Хватит ли у меня творческой воли, чтобы вернуть сюжет к его оси — вопрос всегда открытый.
«Для писателя рассказать историю — далеко не самое главное»
Как выбираетесь из тупика?
Я начинаю мучительно думать, что делать дальше. Иногда пытаюсь проследить какой-то ряд ключевых слов по тексту, достаточно абстрактный и даже не имеющий отношения к сюжету, но который может вывести меня из западни. А в большинстве случаев просто начинаю отсекать. Убираю абзац из поворота, два-три абзаца, иногда целую главу. И понимаю, что, да, три дня я потерял зря.
Похоже на прокладывание дороги по неизвестной территории.
В этом и смысл. Письмо — это некая практика себя, поэтому я рекомендую всем, кто может, — занимайтесь письмом. Это фундаментальная вещь, которая поставит вас в позицию суверена. Даже если вы пишете о своей смерти, это все равно, чтобы выжить. Я считаю, это даже духовная практика. Она связана с опасностями — риском сойти с ума, навредить близким. В нашей социальной обусловленности мы не все имеем право открывать другим людям. Но здесь, на письме, вам приходится идти по минному полю.
«Письмо — это некая практика себя, поэтому я рекомендую всем, кто может, — занимайтесь письмом»
Эта духовная практика направлена на познание себя или мира?
Как минимум себя. Я считаю, нужно заниматься собой. Не надо работать, не надо служить, не надо обращать слишком уж большое внимание на какие-то социальные проблемы. Слава богу, люди сейчас это понимают. Читают умные книги, занимаются фитнесом, йогой, чем угодно. Хорошо, если бы они еще и практиковали письмо, это важнейшая из практик осознания своей уникальности, сложности и своей свободы. Антонен Арто говорил, что всякая подлинная свобода черна и с неминуемостью совпадает со свободой пола, которая так же черна, и непонятно, почему. Я как бы выхожу на эту рискованную территорию, где может проявиться как погибель, так и спасение. Смогу ли я рассмотреть светлое пятно в своей черноте?
Письмо — это непредсказуемая практика, которая соотносится с искусством интонированного смысла, — так определял музыку философ-музыковед Асафьев. Мне тоже важно поймать какую-то тональность, мне нужно постараться услышать верный тон моей мысли. Поэтому моя задача перевести себя в некое пассивное состояние воли, чтобы я смог прислушаться и откликнуться, когда услышу какой-то зов, и дальше свободно его протранслировать на письме. Сюжет будет рождаться по мере того, как разворачивается интонация. Конечно, некоторую дань условности, фабуле и сюжету нельзя не отдать, но на самом деле я занимаюсь другим. Я же пишу не слова, я преследую звуковые картины.

А как вы приводите себя в пассивное состояние воли?
Прежде всего, у меня есть некая практика, в которую входит все, что я знаю из психотерапии, буддизма, шаманизма, индуизма, тайцзи, — этакий коктейль Молотова. И я ее использую, чтобы выбрасывать себя из реальности, чтобы ей не принадлежать. Если говорить конкретно о писательских настройках, они связаны, прежде всего, с некой отрешенностью. Надо понимать, что ты в мире один. Лучше поголодать — в смысле общения. Дня три ни с кем не разговаривать, кроме близких, ничего не делать, чтобы потом сесть и начать писать. Чтобы преодолеть порог письма, я привожу себя в состояние аффективности. Если все равно не пишется, ничего страшного. Но когда захотелось — отложи все в сторону, и пусть оно пишет. Главное, чтобы писание происходило так, как оно само хочет, а не как ты. Основная ошибка в том, что мы волевым образом навязываем произведению свои законы, хотя эти законы принадлежат не нам, а самому письму как аффекту. В самом языке достаточно мудрости и безумия, чтобы он тебя вел. Как говорил классик, слова должны захотеть, чтобы у меня рождались книги.
Что еще входит в коктейль Молотова?
Сейчас я уже достиг такой алхимической фазы, когда духовная жизнь сама начинает меня разворачивать, ломать, крутить и разрывать. Раньше были нужны какие-то радикальные поступки. Какие-то метания. Была нужна некая разбалансировка, чтобы осознать, что ты не принадлежишь ни к какому конкретному туннелю — социальному, профессиональному, карьеристскому. Для этого нужно пошататься, может быть, поворовать, как Жану Жене, или крепко пить. Я в свое время и до больницы дошел, потом понял, что лучше себя ограничивать в спиртном. Но надо пошататься — не для того, чтобы потом описывать эту шатающуюся жизнь, а чтобы она тебе поверила и сама в тебе рождалась. Чтобы не терять чувствительности к ее стихийным бергсоновским порывам.
А внешний опыт — это уже вторично. Вот ты выскочил из троллейбуса и побежал за женщиной, потому что тебе было интересно, какая она, какое у нее лицо. Я до сих пор иногда так делаю, просто чтобы привести себя в некое животворное чувство. Вот человек сидит и уплетает кекс. Это тоже страшно интересно. Его просвеченное солнцем ухо и темный, как жнивье, ежик волос. Или почему по телефону у кого-то бархатный нежный голос, а когда встречаешься с ним в реальности, то внешне он сам крепкий и узкий, как сталь? Жизнь нас удивляет постоянно. Как не прозевать шок этих мелких, по сути художественных событий? Так же и текст должен нас удивлять. Важны прорывы за серую грань, пусть расцветают последние рубежи удивления. Пусть, отрываясь от книги, покажется, что все вокруг не так уж и плохо. Хотя вообще-то все очень плохо.
«В самом языке достаточно мудрости и безумия, чтобы он тебя вел»
Со временем удивления не становится меньше?
Удивление — предмет практики. Со временем становишься как тот желтый одуванчик, прорастающий через асфальт, даже когда на улице хмурый ноябрь. Когда понимаешь, что если нет звезд на небе, нужно искать их свет в себе. Приходишь к каким-то религиозным истинам.
На ваш взгляд, когда пишешь, не нужно думать о читателе?
Это даже вредно, потому что будет не туда направлять. Письмо — сугубо эгоистическое занятие, что стало ясно после Ницше, который завещал нам искусство для художников и только для художников. Это собственный путь рисков, опасностей, возможности спасения. Это личное дело, я не должен ни на кого оглядываться. Я должен ошибаться, если я ошибаюсь, только так, как могу только сам ошибаться. Рождаешься один, умираешь один и пишешь один. Я удивляюсь вместе со своим сознанием, для меня это кастанедовская практика. Я изменяю себя и надеюсь, что та подлинность, да будет позволено мне это слово, с какой я отношусь к этому процессу, заразит и моего читателя. А технических секретов у меня нет. Техника не может поставить вопрос о свободе так, как это делает человек.
«Рождаешься один, умираешь один и пишешь один»
Прошлый ваш роман «Олимп иллюзий» попал в финал премии Белого. Это повлияло на его читательскую судьбу? Как вы вообще относитесь к современному премиальному процессу?
Настоящему читателю должно быть наплевать, получила ли книга какую-то премию или попала в какой-то финал. Настоящий читатель тоже суверен. Он выходит с автором один на один и либо влюбляется в него и обожает его, либо презирает: я-то думал, что ты действительно звезда, а тебе, похоже, дали, как в обычном офисе, по блату. Писатель, если в нем еще остается хоть гран подлинности, всегда выше премий. Тем более сегодня, в наше время, когда вокруг, как говорит философ Сергей Хоружий, гиперкоррупция и отрицательный естественный отбор. Литература не исключение.
Однако вы делали собственную премию — под названием «Звездный фаллос». Зачем?
Скорее, антипремию. Чтобы показать, что премии дают только своим. И я тоже дал ее своим — Игорю Яркевичу, Евгению Лесину, Алексею Нилогову, с которым потом, в следующих сезонах, мы стали делать ее на пару. Как сказал наш лауреат Ефим Лямпорт, настоящий писатель получает от общества известно что: *** он получает, коня в пальто. Вот мы этот самый *** и вручаем.

Почему премия перестала существовать?
Я вкладывал собственные средства, помогали и небольшими деньгами товарищи. Нужно было снимать зал, платить музыкантам и актерам. Я сам делал призы — фаллические статуэтки. У скульптора заказал слепок, заливал туда гипс по всем правилам, затем красил. Пока домашние спали, я в своей алхимической лаборатории занимался изготовлением орудий протеста. Заказывал у дизайнеров и неподдельные казначейские билеты, дипломы… «Звездный фаллос» претендовал встать над Букеровской. Я продолжал искать спонсоров с большими деньгами, чтобы даже из церемонии награждения сделать фантастически артистичное шоу — с фейерверком, с балетом а-ля Дягилев! Чтобы это был великий праздник великого полдня, мистерия! Речь шла о дионисийском начале, о карнавальном переворачивании всех ценностей. От имитации свободы может спасти только эротизм. За это борьба, а не за какие-то порнографические ценности. Обсценный вид приза — всего лишь эстетический жест, радикальная метафора. Надо было взломать, наконец, этот социальный симулякр, в который превратили современную литературу. Но никто из богатеньких, среди которых мы искали спонсора, не оценил такого порыва. На что-нибудь благопристойное — пожалуйста! На благотворительность — пожалуйста! Миллион долларов на церковь ради спасения души — пожалуйста! На «Звездохуй» — нет.
Авторы, которым дают мейнстримовые премии, неискренны, вы считаете?
В большинстве случаев это заурядные охотники за премиями. Есть глубокая русская травма: мы травмированы социальным. Еще с семнадцатого года прошлого века и даже раньше. Русская душа заражена мифом о справедливости. И это настолько болезненно, что большинство писателей начинают именно с этого травматического горизонта. Если автор пишет об этом искренне, ради бога, я ничего плохого на этот счет не могу сказать. Но, увы, так социальное и становится первичным. И как товар это потом хорошо продается, за это и дают призы. Но разве писатель не должен размышлять о жизни как-то глубже, из-под горизонта, с какой-то другой — метафизической стороны? Разве социальность не должна быть вторична? Человек — не социальное, а прежде всего эротическое существо. Но раз уж разговор зашел об обществе, то не скрою, что в социальной жизни я симпатизирую Навальному. Я даже считаю, что нам не хватает своего Навального и в литературе, который почистил бы наши литературные авгиевы конюшни. Но я бы хотел, чтобы это было разделено: одно дело — мои социальные и политические воззрения, а другое — чисто писательская квинтэссенция, где речь прежде всего о страстях.
«Русская душа заражена мифом о справедливости»
На ваш взгляд, внутрь себя смотреть сложнее, чем вокруг?
Я бы сказал, страшнее. У древних греков было такое упражнение — размышление о смерти. Я прочитал о нем у Фуко в «Герменевтике субъекта». Гениальная книга, библия для современного человека. И однажды я решил это упражнение выполнить. Представил себе свою смерть, что она с неминуемостью должна прийти. Что она все ближе. И что вот она уже приходит. Прямо сейчас. Медленно входит в мое тело. Проникает в сердце. И я взглянул на свою жизнь сверху вниз. Как я жил? Тем ли я занимался? Что, собственно, представляла из себя моя жизнь? Я просто зарыдал! Какой же я ничтожный человек! Это было страшно, это был предельный опыт. И в этом ужасе предсмертном я стал писать. Писать предсмертное письмо и признаваться. А ведь это, собственно, и должен делать художник. Что он делает? Он же себя распинает. Он должен предъявить то, что другой человек предъявить не сможет. Кто же еще? Не священник же, не политик. Я должен взглянуть злу, которое и есть человек, в глаза. Не многие способны так рисковать. Им по плечу писать только про социальную несправедливость, про ужасы режима.
Вы ведете курс «Антропологическое письмо». Что это значит?
Вот это и значит. Я учу рисковать.
Например?
Например, я разбираю рассказ Леонида Андреева «Мысль». Там доктор Керженцев убивает своего друга. Я разбираю этот рассказ с разных сторон, с литературной, философской, психологической. И когда группа уже разгорячена обсуждением, я вдруг говорю что-нибудь этакое: «Но ведь и у каждого из вас, конечно, есть друг. Который вас чем-то не устраивает. Так вот представьте себе, что вы его убили. За что вы его убили? Как вы теперь себя чувствуете? Раскаиваетесь ли вы? А ну, напишите-ка». И даю минут десять-пятнадцать на упражнение. Это запретная территория. Но моим адептам нужно действовать. И письмо их становится опасным и живым.
Современной литературе, на мой взгляд, не хватает энергии. Есть грамотное разворачивание сюжета, тот или иной стиль, идеи опять же и проблемы. Но это все как-то сухо и тяжело, тенденциозно или вычурно выходит. А читатель хочет жизни, чувства, страсти. Для писателя это значит, что он должен не бояться себя завести, взвинтить, признать на письме свой невроз или эфемерность надежд, героин веры, или что-то еще вынести на свет из своего бессознательного. Потому что питает-то на самом деле твое письмо только твоя собственная природа. А ум только поправляет. Предъявите свои пороки, свои страсти, свои страхи и слабости — и вы узнаете в лицо свои мечты. С человеком, как говорит Ницше, происходит то же, что с деревом: чем больше он стремится вверх, к свету, тем глубже уходят его корни в землю, вниз, на глубину, во зло. Надо это понять и принять, если хочешь быть художником.
В ваших книгах много эротики. Это — ведущая из страстей?
Я говорю о метафизике эроса. О тех силах, которые призваны нас спасти или погубить. Литература невозможна без восстания против реальности, без радикальности вопрошания. Человечество начинается с мистерий. Во всем, даже в жестокости, в ненависти правит эротика. Социальное — бледная маска, под которой прячется страсть. Это даже не фрейдизм, а движущие силы природы. Звезды влюбляются друг в друга и камни. Дожди влюбляются в облака. Вот почему я пишу для себя, ради какой-то непонятной хищности, ради свободы во зле. Эротизм — это последняя подлинность человека.
Читайте «Литературно» в Telegram и Instagram
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества пишите на info@literaturno.com