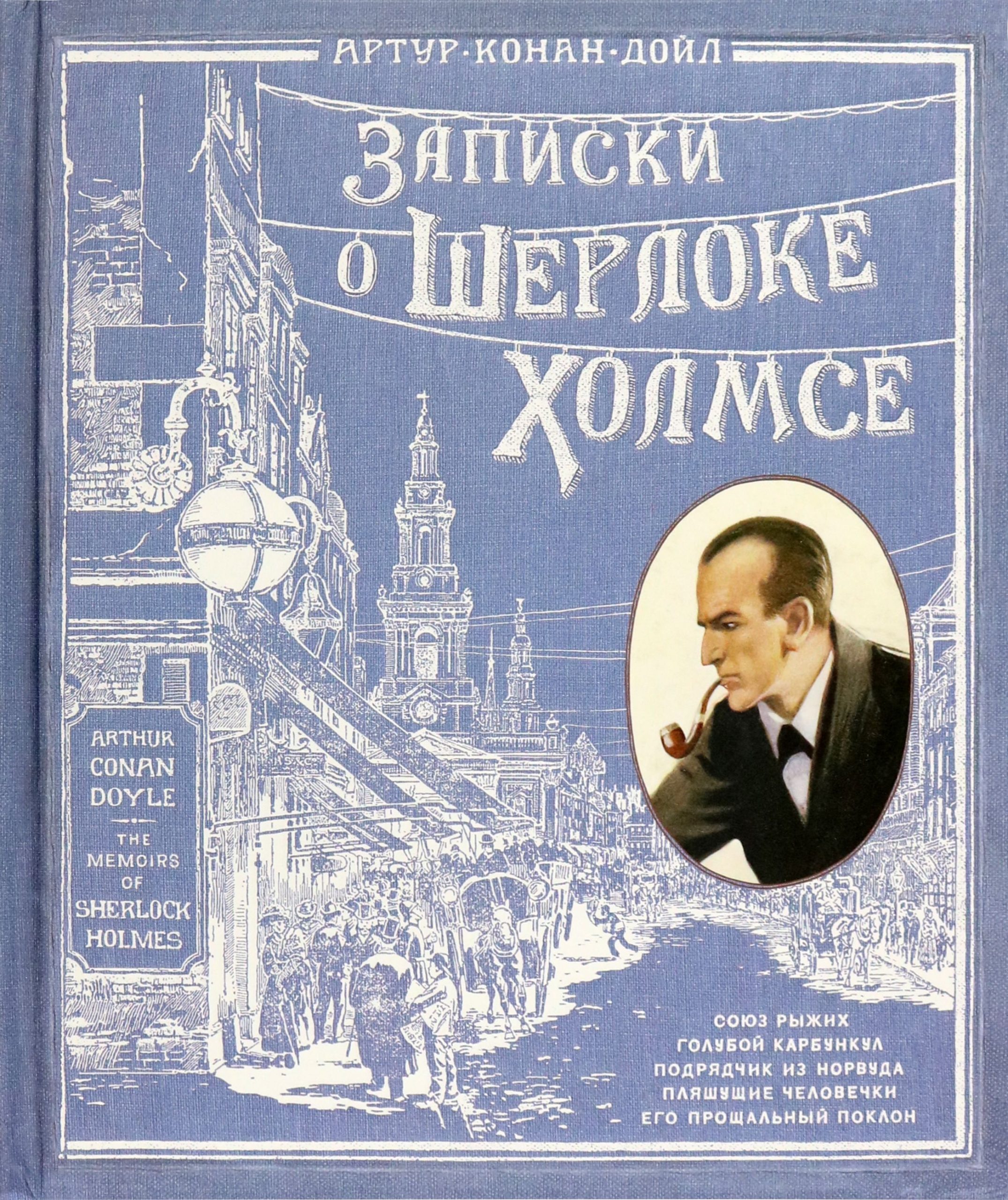В день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки 6 сентября Дмитрий Быков представит свой «Июнь» — самый, по словам автора, трудный его роман. Три истории, уложенные в три разных жанра, объединены одним временем (последние месяцы перед Великой Отечественной войной) и с трех сторон рвутся к единому финалу. Это и трагикомедия, в которую попадает поэт, студент Института философии, литературы и истории. И драма советского журналиста, и гротескная конспирологическая сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы управления миром с помощью языка и текста. Все истории пронизаны тревогой надвигающейся войны. Три героя — каждый по-своему — приближают катастрофу, а расплачивается за них четвертый, ни в чем не виноватый.
Дмитрий Быков рассказал «Литературно» о том, как игра в «Сапера» может подтолкнуть к созданию книги, почему свой следующий роман собирается написать по-английски, и, главное, кто же был тем самым четвертым, ни в чем не виноватым.
Вы пишете о предвоенном времени. Почему именно сегодня?
Потому, что из периодов реакции Россия чаще всего выходит через внешнюю войну. В какой-то момент единственным способом отвлечь страну от внутренних проблем становится внешняя экспансия. Как сказано у Зорина в «Царской охоте», «великой державе застой опасней поражения». Проблема в том, что война не решает ни одной проблемы — она загоняет их вглубь. Именно эти регулярные кровопускания приводят к постепенному обескровливанию и вырождению страны, что мы и наблюдаем. Это путь к деградации, а не к самосохранению. Поскольку российская история регулярно повторяется, нам не надо напрягать воображение, чтобы описать ситуацию конца тридцатых: все перед глазами, вплоть до деталей.
А было ли что-то конкретное, подтолкнувшее к созданию романа?
В одну бессонную ночь, играя в «Сапера», представил историю: тридцать девятый год, мальчик влюблен в девочку, у нее роман с однокурсником, однокурсник уходит на финскую войну и гибнет. Мальчик по-прежнему ее любит и пробует завязать отношения. А она официальная, хоть и не венчанная, вдова героя. Мне показалось, что тут есть коллизия, что это может как-то интересно развиваться. А потом я понял, что это не вся история, а только одна из ее граней.
Одни ваши герои говорят о войне как о том, что может встряхнуть страну и снова сделать людей людьми, а другие уверены, что большое зло ничего хорошего не принесет по определению. Вы сами к какой точке зрения склоняетесь?
Ко второй. Война может привести к выработке консенсуса по нескольким моральным или политическим вопросам, но вообще-то такое возвращение к простейшим истинам покупается слишком дорогой ценой. Если для того, чтобы вспомнить заповеди, каждый раз придется убивать тридцать миллионов, заповеди начнут несколько обесцениваться, что мы и наблюдаем. Война не только стала духовной скрепой, простите за выражение, но еще и породила глубочайший экзистенциальный кризис, девальвацию важнейших понятий. Она остается ключевым событием советской истории именно потому, что это непреодоленная травма, а не просто всенародный подвиг. Нам с ней еще разбираться и разбираться, переставлять акценты, выяснять правду. Но это дело будущего, к которому мы только приближаемся. В качестве первого шага я предлагаю определиться хотя бы с некоторыми аспектами предвоенного времени.
В «Июне» вы рассказываете о героях то, что иногда на лекциях говорите о самом себе. Вы как-то поровну наделили своими чертами персонажей или кого-то все-таки в большей степени?
Единственное совпадение с лекциями — размышления героя третьей части, Игнатия Крастышевского, о главных сюжетах мировой литературы, то есть примерно одна страница. В остальном все, что там сказано обо мне, старательно замаскировано. Разумеется, какие-то заветные мысли розданы нескольким героям, но не главным. Мне симпатичнее других Миша Гвирцман, но у него нет со мной ничего общего. Вообще меня в этом романе мало, не то что в «Квартале», который я люблю больше всех других своих книг. Но я и писал его не о себе, а о давнем прошлом — оно же ближайшее будущее.
Прототип одного из героев — писатель Сигизмунд Кржижановский. Есть ли другие? Можно разглядеть в романе еще кого-то знакомого?
Наверное, можно, но зачем? Я взял несколько ситуаций, которые были или могли быть, но пересказал их по-своему. Про Кржижановского, честно говоря, тоже преувеличение. Я думал о нем, когда писал про Крастышевского, но это очень отдаленный прототип.
В последнее время вы не писали прозу, тогда как в других жанрах работали активно. Стоит ли после «Июня» вновь ждать прозаического затишья?
Как это не писал? 2014 год — «Квартал», а роман я пишу примерно раз в два-три года. «Маяковский» — тоже не такая уж чистая биография, там большие прозаические куски. Рассказов штук пять. Я опубликую еще одну подростковую повесть, она почти готова, а потом, наверное, буду писать большой и важный для меня роман, одну из главных и заранее любимых книг, которую предвкушаю с наслаждением (а «Июнь» писал довольно мучительно, стараясь отфильтровать нежелательных читателей). Но этот роман я намерен писать по-английски, а где печатать — подумаю. Вообще издать английский роман в российском издательстве было бы забавно. При этом у меня нет никаких планов насчет отъезда, никакого желания окончательно переходить на другой язык, никаких набоковских ассоциаций и т. д. Просто есть вещи, которые надо писать в определенной традиции — как итальянскую оперу желательно петь по-итальянски, а кофе по-венски пить в Вене.
Есть ли в современной прозе что-то более-менее близкое по духу роману «Июнь»?
В современной — нет. Сравнивать его будут, думаю, с «Детьми Арбата» и с «Домом на набережной» — говорю не о качестве и не о стиле, а о материале. Сравнения эти, по-моему, естественны, но поверхностны. Любая книга о предвоенном времени затрагивает одни и те же приметы этой эпохи, но для меня важны были не они. Мне важно было написать о том, как три героя — каждый по-своему — приближают катастрофу, а расплачивается за них четвертый, ни в чем не виноватый. Этот четвертый — мой дед.
Дмитрий Быков. Июнь. «Редакция Елены Шубиной», 2017.
Читайте также: