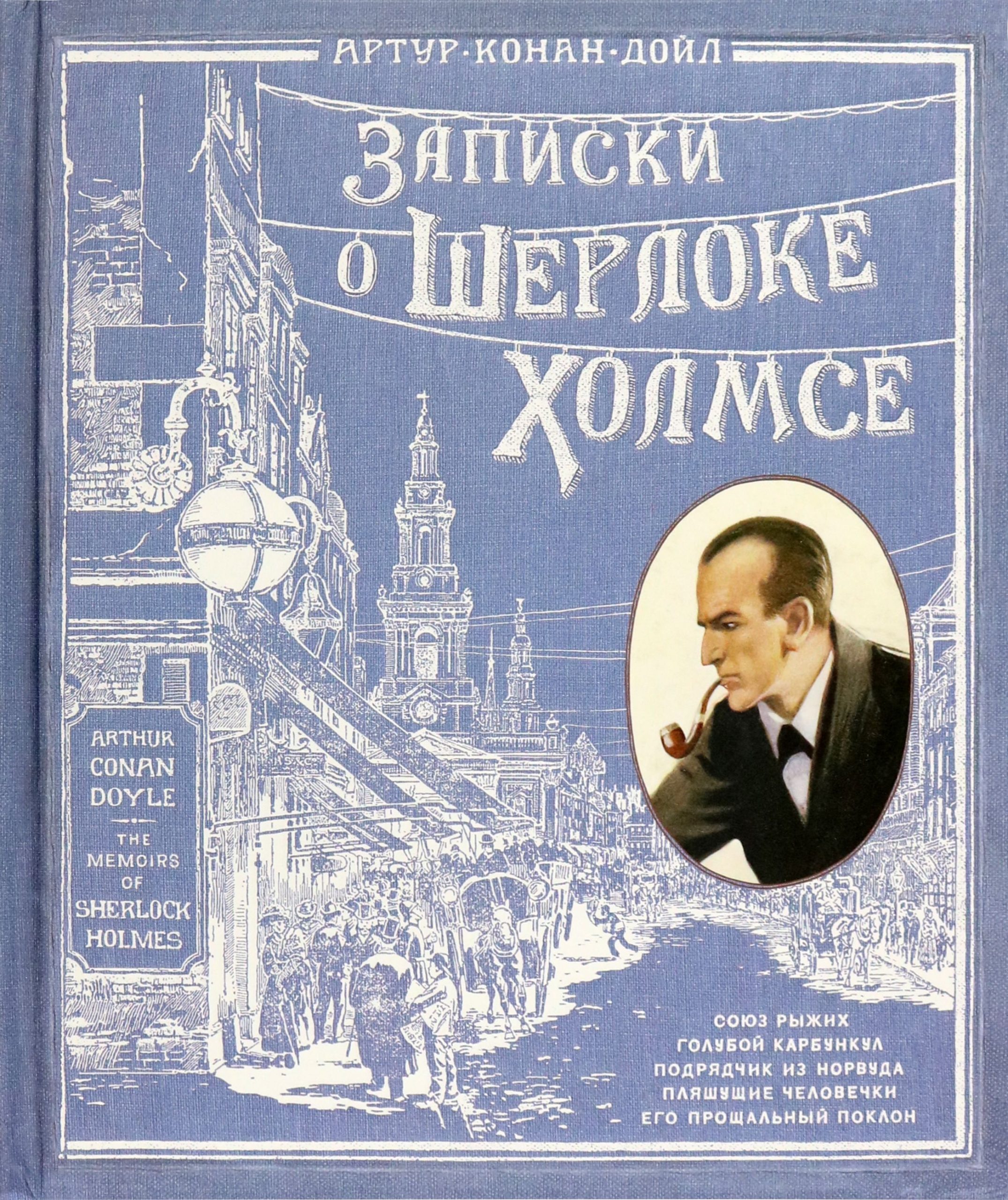В 12 лет Амос Оз пнул будущего премьер-министра Израиля ногой. В 15 переселился в сельскохозяйственную коммуну. Затем сменил кибуц на Оксфорд, где изучал философию. Участвовал в Шестидневной войне, после которой стал непримиримым оппозиционером и своими эпатажными высказываниями приобрел множество врагов среди политиков. Сегодня 78-летний Амос Оз считается одним из главных претендентов на Нобелевку, книги его переведены на десятки языков, роман «Мой Михаэль» называют одним из лучших произведений XX столетия. Последний роман Амоса Оза «Иуда» сразу номинировали на Букеровскую премию.
В России известно около десятка книг Амоса Оза, в том числе «Повесть о любви и тьме», «Познать женщину», «Рифмы жизни и смерти», «Черный ящик». На днях издательство «Фантом Пресс» представило новый для русскоязычного читателя и «самый русский роман» израильского мэтра — «Фима. Третье состояние».
Фима живет в Иерусалиме, но его не покидает чувство, что он должен находиться где-то в другом месте. Это прекраснодушный мечтатель и философ-любитель, в прошлом — подающий большие надежды поэт, в настоящем — администратор гинекологического кабинета. Яичница у Фимы всегда подгорает. Его все любят, но и выносят с трудом тоже все. Фима потерянно бродит по Иерусалиму, параллельно плутая в чащобе своих грандиозных идей и все больше запутываясь в хитросплетениях личной жизни. Фима — чеховский дядя Ваня, скрещенный с гончаровским Обломовым с джойсовским Леопольдом Блумом.
«Литературно» публикует главу «До последнего фонаря», в которой Фима размышляет над смертью таракана Троцкого, пытается отмыть сковородку, не вполне удачно мастурбирует, разговаривает с человеком, который будет жить в его комнате через 100 лет, а после пишет горячую статью о революции.
Разобравшись с мешком для прачечной, Фима отправился в кухню — выкинуть окурки, оставленные Аннет. Открыл дверцу шкафчика под раковиной и увидел таракана Троцкого — мертвого, лежащего на спине подле переполненного мусорного ведра. Что стало причиной его кончины? «Никакого насилия не было. Уж несомненно, в моей кухне не помирают с голоду». Фима немного поразмыслил и пришел к выводу, что разница между бабочкой и тараканом — не более чем разница в вариациях, и уж конечно нет никаких оснований считать бабочек символами свободы, красоты и чистоты, а тараканов — воплощением мерзости. Однако отчего же он помер? Фима вспомнил, что утром, когда он занес ботинок над Троцким, но раздумал, это создание даже не пыталось избежать удара судьбы. «Возможно, уже тогда таракан был болен, но я ничего не сделал, чтобы помочь ему».
Фима подобрал мертвого таракана и поместил его в обрывок газеты, свернутый кульком, но, вместо того чтобы выбросить все в мусорное ведро, выкопал могилку в бесплодной земле цветочного горшка, стоявшего на подоконнике. После похорон он набросился на посуду в раковине, перемыл тарелки и чашки. Добрался до сковородки, с которой для начала следовало соскрести жирные ошметки, но, почувствовав усталость, подумал, что ничего сковородке не сделается, если она соизволит подождать до завтра — вместе с остальной посудой. Не смог он приготовить себе и чая, ибо утром сгорел электрический чайник, не выдержав погружения Фимы в глубины эволюции. Тогда Фима пошел помочиться, но в середине процесса охватило его нетерпение, он спустил воду, чтобы поторопить свой заикающийся мочевой пузырь, однако и на сей раз проиграл гонку. Не дожидаясь, пока сливной бачок наполнится вновь, он попросту покинул туалет и выключил за собой свет. «Надо потянуть время, — сказал он себе. И добавил. — Если ты понимаешь, что я имею в виду».
Незадолго до полуночи он облачился во фланелевую пижаму, которую Аннет швырнула на ковер, забрался в постель, испытывая подлинное наслаждение от свежего белья, и углубился в статью Цвики Кропоткина в газете «Ха-Арец». Статья показалась ему вычурно наукообразной и банальной, как и сам Цвика, но все-таки Фима надеялся, что чтение поможет ему заснуть. Выключив свет, он вспомнил нежный, детский вскрик наслаждения, вырвавшийся из горла Аннет в тот миг, когда бедра ее сжали его пальцы, извлекавшие из нее мелодию. Вновь всколыхнулось в нем вожделение, а с ним — и обида, и чувство несправедливости: почти два месяца не было у него близости с женщиной, и вот вчера и сегодня упустил он двух женщин, несмотря на то что обе уже лежали в его объятиях. Из-за их эгоизма не удастся ему заснуть нынче. Ему подумалось, что прав был Ери, доктор Тадмор, оставивший Аннет, он задыхался от ее лжи. И тут же одернул себя: «Какой же ты мерзавец». Бессознательно, как бы невзначай, рука его медленно начала утешать напрягшийся член. Но тут Фима заметил, что незнакомый человек, умеренный и рассудительный, чьи родители даже еще не родились, человек, который будет жить в этой комнате через сто лет, глядит из темноты, и во взгляде его скепсис мешается с любопытством, приправленным смешинкой. Фима оставил в покое свой член и произнес громко:
— Не тебе меня судить.
И добавил тоном заядлого спорщика:
— Так или иначе, но через сто лет не будет здесь ничего. Все будет разрушено.
А напоследок:
— Заткнись. Кто с тобой вообще разговаривает?
И все умолкли — и не издавший ни звука Иоэзер, и сам Фима, и даже вожделение его умолкло. Вместо этого напала на него острая ночная активность, волной взмыли живость, внутренняя сила и духовная ясность, в эту минуту он мог справиться с тремя заговорщиками из кафе «Савийон», сокрушить их, мог сочинить поэму, основать партию, сформулировать мирный договор. В голове звучали слова, фразы — отточенные, ясные. Фима сбросил с себя одеяло, рванулся к письменному столу и, вместо того чтобы созвать Революционный совет на ночное совещание, сочинил за полчаса, единым махом, не вычеркивая и не исправляя, статью для расширенного выпуска газеты, что выходит в конце недели увеличенным тиражом. Это был ответ Цви Кропоткину о том, какова цена морали сегодня, когда насилие стало обыденностью. В наши дни волки всякого сорта и толка вкупе с овцами, рядящимися в волчьи шкуры, проповедуют примитивный дарвинизм, вопят, что во время войны мораль нужно оставить дома в компании женщин и детей, что если сбросить с себя бремя морали, то в бой мы отправимся налегке, исполненные лишь радости, и сметем все на своем пути. Цви запутался в своих попытках опровергнуть этот тезис, поскольку прибегнул к аргументам сугубо прагматическим: мол, просвещенный мир нас накажет, если мы и далее будем уподобляться волкам. Но ведь правда состоит в том, что все режимы, что опирались на силу и агрессию, рухнули в итоге, а те народы, что холили и лелеяли мораль и нравственность, оказались более жизнеспособны. В исторической перспективе, писал Фима, мораль защищает тебя в большей степени, чем ты защищаешь мораль, а в отсутствие морали даже жестокие, ничем не сдерживаемые волчьи челюсти обречены на гниение и отмирание.
Потом он надел чистые рубашку и брюки, облачился в медвежий свитер, унаследованный от Яэль, запахнул зимнюю куртку, проворством перехитрив на сей раз ловушку, уготовленную ему дыркой в подкладке, сжевал таблетку от изжоги и слетел на улицу, перепрыгивая через две ступеньки, кипя и бурля радостью от ощущения ответственности.
Легкий в движениях, взведенный как пружина, бодрый, равнодушный к ночной прохладе и опьяненный тишиной пустынных улиц, Фима шел, печатая шаг, словно в ушах его звучал марш. На мокрых улицах не было ни единой живой души. Город возложил на него миссию — защитить Иерусалим от самого Иерусалима. Тяжелыми, массивными выглядели в темноте дома, выстроившиеся в ряд, фонари были окутаны желтоватым бледным паром, у входа в парадные поблескивали номера домов, освещенные слабым электрическим сиянием, там и сям отражавшимся в стеклах припаркованных автомобилей. «Живем автоматически, — думал он, — жизнь наша комфортна, успешна, сплошная рутина из приемов пищи, финансовых операций, совокуплений, а душа тем временем все глубже погружается в жировые складки процветания, в общепринятые банальности; именно это имеется в виду в одном из Псалмов: “Отупело, как тук, сердце их”. Сердце сыто, и нет ему дела до смерти, и самое сильное желание его — оставаться сытым и впредь. Вот здесь-то и корень трагедии Аннет и Ери. Это дух смятенный долгие годы стучится понапрасну в неживые предметы, умоляет отворить давно запертые двери. Свистит саркастически сквозь щелочку меж передними зубами. Прошлогодний снег. Снег прошлогодний. И что нам до арийской стороны…
А вы, господин мой, премьер-министр? Что совершили вы в жизни своей? Что сделали вы сегодня? И вчера?»
Фима пнул пустую жестянку из-под пива или колы, и та поскакала вниз по переулку, перепугав кота у мусорных баков.
«Ты смеялся над страданиями Тамар Гринвич только потому, что из-за генетического каприза родилась Тамар с одним глазом карим и другим — зеленым. Ты презираешь Эйтана и Варгафтика, но, по сути, чем ты лучше их? Ты обидел без причины Теда Тобиаса, человека прямого, трудолюбивого, который не сделал тебе ничего плохого. Другой бы на его месте тебя и на порог своего дома не пустил. Уже не говоря о том, что благодаря его усилиям, благодаря вкладу Яэль у нас будут реактивные движители.
Что ты сделал с тем сокровищем, имя которому “жизнь”? Какую пользу принес? Кроме подписей под всевозможными воззваниями? И если этого недостаточно, то ты ведь еще и огорчаешь своего отца, а он, по сути, содержит и тебя, и еще десятки людей. Услышав по радио о смерти арабского парня из Газы, которому наша пуля попала в голову, что ты сделал? Начал возмущаться формулировкой сообщения. А унижение, которое по твоей вине испытала Нина, подобравшая тебя, мокрого и грязного, на улице посреди ночи? Она ввела в свой дом, обогрела и накормила тебя, отдала тебе свое тело. А твоя ненависть к молодому поселенцу, у которого — если взять в расчет глупость правительства и слепоту масс — ведь не остается никакого выбора, только носить пистолет, потому что жизнь его и вправду подвергается опасности во время ночных поездок по дорогам между Хевроном и Вифлеемом. Что ты хочешь, чтобы он сделал? Подставил свою шею под нож убийц? А Аннет, господин защитник морали? Что ты сделал сегодня с Аннет? Которая доверилась тебе. Которая наивно надеялась, что ты облегчишь ее страдания, выслушав ее, она простерлась пред тобой, в точности как крестьянка простирается у ног старца божьего в каком-нибудь православном монастыре. Единственная женщина в твоей жизни, что назвала тебя “брат мой”. Никогда не повторится подобное благодеяние, которого ты удостоился, никогда женщина не назовет тебя “брат мой”. Она полагалась на тебя, даже толком не зная, кто ты, доверилась тебе настолько, что позволила раздеть себя, уложить в постель, назвала тебя “ангелом”, а ты переоделся в мантию святоши, прикрыл свое лукавство. А что уж вспоминать про кота, которого ты только что вверг в ужас. Вот он, итог твоих последних героических деяний, председатель Революционного совета, устроитель мира во всем мире, утешитель брошенных женщин. Да еще и на работу не явился по абсолютно лживой причине, и акт онанизма, незавершенный. Все твои итоги — моча, что плавает в унитазе, и похороны, устроенные таракану, впервые в истории почившему от грязи».
С таким выводом Фима и миновал последний фонарь в самом конце переулка, бывшего также и концом жилого микрорайона и концом Иерусалима. От этого места и далее простирался пустырь — грязь да камни. Фима хотел было продолжить путь — по прямой, в самую глубь темени, пересечь вади, русло речушки, полноводной только в сезон дождей, подняться по склону горы, зайти настолько далеко, насколько позволят ему силы, выполняя возложенную на него миссию — ночной страж Иерусалима. Но из тьмы донесся лай собак, затем два одиночных выстрела, разделенных интервалом тишины. После второго выстрела задул западный ветер, принеся странные шорохи и запах влажной земли. А сзади, в переулке, раздались неясные постукивания, будто шел там слепой человек, нащупывая путь тростью. Мелкий дождик постепенно заполнял воздух. Весь дрожа, Фима повернул домой. Там, словно приговорив себя к каторжным работам, перемыл он всю посуду, включая и липкую от жира сковородку, тщательно протер кухонную стойку, спустил воду в унитазе. Только мусорное ведро не вынес, потому что было уже без четверти два и напал на него безотчетный страх, проложивший дорогу к нему в ночном мраке. Да ведь и на завтра надо было хоть что-то оставить.
Амос Оз. Фима. Третье состояние. Перевод Виктора Радуцкого. Издательство «Фантом Пресс», 2017
Читайте «Литературно» в Telegram, Instagram и Twitter
Это тоже интересно:
По вопросам сотрудничества и рекламы пишите на info@literaturno.com